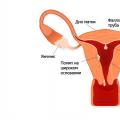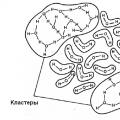Почему в качестве летних резиденций царская фамилия Романовых выбрала Крым?
На очень сложный и весьма неоднозначный вопрос о причинах размещения первых летних резиденций царской династии Романовых на Южном берегу Крыма ответить без упоминания многих мелких исторических деталей практически невозможно. Рассказывая читателю о неоднозначном выборе руководителей партии и правительства РСФСР ранней весной 1921 года местоположения своих первых летних резиденций на территории Крымского полуострова, нельзя не заметить одно чрезвычайно важное обстоятельство, имеющее ключевое значение в моем повествовании. Дело в том, что Крымский полуостров, в отличие от Черноморского побережья Кавказа, к 1917 году имел почти полувековую историю использования его в качестве мест отдыха и проживания царской фамилии, а также обширной группы наиболее влиятельных предпринимателей России. Тут необходимо сделать важную оговорку, касающуюся местопребывания одной из летних резиденций императора Александра III в Новом Афоне (Абхазия), на территории ныне действующего Ново-Афонского монастыря, которая, в отличие от крымских имений царя, не стала культовой и широко известной. В данном случае уместно будет категорически заявить, что императорский дом Романовых до 1917 года считал своей официальной летней резиденцией две государственные дачи в Крыму, расположенные почти рядом – в Ливадии и Нижней Ореанде. Можно также смело закрепить за данными историческими объектами именно название «госдача», которое стало входить в словарь бюрократического сленга только после марта 1946 года в СССР. Однако эти два имения – Ливадия и Нижняя Ореанда – действительно находились на балансе государства, были возведены указом императора Александра II в статус летних резиденций и особо охраняемых объектов со строго установленным штатом сотрудников охраны.
В 1783 году Крымский полуостров после отречения последнего крымского хана Шахин-Гирея был присоединен к России. Присоединение было практически бескровным. 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала «Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», которым «по долгу предлежащего попечения о благе и величии Отечества» и «полагая средством навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир между империями Всероссийской и Оттоманской». 28 декабря 1783 года Россия и Турция подписали «Акт о присоединении к Российской империи Крыма, Тамана и Кубани», которым отменялась статья (артикул) 3 Кючук-Кайнарджий-ского мирного договора о независимости Крымского ханства. В свою очередь, Россия этим актом подтверждала турецкую принадлежность крепостей Очаков и Суджук-Кале. В Крым после долгой смуты пришел мир. За короткое время выросли новые города: Евпатория, Севастополь и др. Полуостров стал быстро превращаться в важнейший для России культурный и торговый регион Причерноморья, а в Севастополе началось создание главной базы Черноморского флота России. В 1784 году Крым стал частью Таврической области с центром в городе Симферополе. Согласно указу «О составлении Таврической области из семи уездов и об открытии присутственных мест в городах оной» область была составлена из семи уездов: Симферопольского, Левкопольского, Евпаторийского, Перекопского, Днепровского, Мелитопольского и Фанагорийского.
После Русско-турецкой войны 1787–1791 годов российская принадлежность Крыма была вторично подтверждена Ясским мирным договором, который закрепил за Россией все Северное Причерноморье.
Указом императора Павла I от 12 декабря 1796 года Таврическая область была упразднена, территория, разделенная на два уезда – Акмечетский и Перекопский, присоединена к Новороссийской губернии. В 1802 году была образована Таврическая губерния, просуществовавшая вплоть до Гражданской войны в России. С конца XVIII века началось постепенное экономическое развитие и благоустройство Крымского полуострова, согласно личным пристрастиям и стратегическим установкам тогдашней российской аристократии. В августе 1860 года имение Ливадия было принято в Управление уделами императорского двора от наследников графа Льва Севериновича Потоцкого. Выражаясь современным языком, царская династия Романовых в лице императора Александра II купила на бюджетные деньги для собственных нужд у частного лица понравившееся ему огромное имение с ухоженным дворцово-парковым комплексом.
Имение Ливадия. Малый дворец. Построен по проекту И.А. Монигетти в 1866 году. В ноябре 1941 года был подожжен спецгруппой НКВД перед оккупацией Ялты. Фото 1910 года
Граф Л.С. Потоцкий владел имением в Ливадии с осени 1834 года и вложил очень много сил и времени в его развитие и процветание. К концу 50-х годов XIX века имение Ливадия графа Л.С. Потоцкого представляло собой прекрасно обустроенную усадьбу с Большим и Малым двухэтажными жилыми домами. Зимний сад украшал фонтан из белого каррарского мрамора. Практически сразу после смерти графа Л.С. Потоцкого (умер 10 марта 1860 года) в мае 1860 года его дочери и наследницы Леонилла Ланцкоронская и Анна Мнишек получили выгодное предложение от управляющего Департаментом уделов Министерства императорского двора Ю.И. Стебнока о покупке Ливадии для царской семьи. Как известно, «предложение» подобного свойства от главы Российской империи редко бывает беспредметным и мало продуманным, скорее наоборот. В данном случае сестры совсем не хотели продавать родовое имение кому-либо, но гнев монарха, пусть и не совсем справедливый, по тем временам мог закончиться весьма плачевно для молодых особ, которые не хотели провести остаток жизни в Сибири или еще дальше. Наследницы нехотя согласились навсегда расстаться с любимым имением, только учитывая тот факт, что это недвусмысленное личное желание Александра II и по правилам игры данный отказ воспринимался бы монархом как вызов. По словам графини А. Мнишек, «то, что Ливадия сейчас продается, вызвано единственно тем, чтобы сделать приятное Императору». В конце ноября 1860 года император Александр II приехал для осмотра будущей своей личной резиденции в Ялту. Имение после тщательного осмотра понравилось Александру II поначалу лишь своим местоположением, и после недолгого раздумья император отдал указание провести реконструкцию этого здания, согласно статусу правительственной резиденции и пожеланиям царской четы. В качестве автора будущего проекта реконструкции имения Ливадия Александр II предложил управляющему Департаментом уделов Ю.И. Стебноку кандидатуру главного архитектора императорских царскосельских дворцов И.А. Монигетти.
Ипполит Антонович Монигетти – выдающийся русский архитектор и акварелист, представитель архитектурной эклектики, много работавший по заказам царской фамилии и высшей аристократии. Фактически И.А. Монигетти стал первым официально известным придворным архитектором в России, которой целенаправленно занимался проектированием и возведением резиденций императорского дома Романовых, которые впоследствии, уже в эпоху СССР, назовут странным словом «госдачи», а для их строительства учредят в 1946 году проектное бюро ХОЗУ МГБ. В некоторых современных исторических источниках назван первым «придворным» архитектором М.И. Мержанов, что, конечно, недалеко от истины, но со скидкой на советский период, ведь автор построенных правительственных резиденций в Волынском, Бочаровом Ручье и Мацесте творил в эпоху правления И.В. Сталина, а И.А. Монигетти при Александре II. Получается, как ни крути, первенство в разработке архитектурного стиля, компоновки и подборки строительных материалов для первых в России правительственных резиденций принадлежит И.А. Монигетти.
Выдающийся российский архитектор и создатель правительственных резиденций И.А. Монигетти родился в семье эмигранта из Швейцарии каменщика-виртуоза Антонио Монигети, который был родом из г. Бьяска (кантон Тичино), обосновавшегося и нашедшего хорошо оплачиваемую работу в Москве. Закончив блестящим образом курс московского Строгановского училища технического рисования, в 1834 г. Монигетти поступил в воспитанники Императорской академии художеств, в которой главным его наставником по архитектуре был профессор А.П. Брюллов. В 1839 году за проект театрального училища И.А. Монигетти награжден Малой золотой медалью, но по болезни не участвовал в конкурсе на получение Большой золотой медали и, выйдя из академии со званием художника XIV класса, для поправления здоровья отправился в Италию. Пробыв довольно долго в Италии и посетив после того Грецию и Ближний Восток, Монигетти усердно изучал в этих странах памятники зодчества, фиксировал их детали на бумаге и таким образом составил богатое собрание любопытных рисунков, которые по возвращении его в Санкт-Петербург в 1847 году послужили основанием для присуждения ему звание академика.
Проектная и строительная деятельность И.А. Монигетти по прибытии в Россию началась с поступления его на должность главного архитектора императорских царскосельских дворцов, а также сооружением грациозной купальни в виде турецкой мечети на большом пруде, отделкой дворцовых цветочных оранжерей, устройством двух мостиков в парке Царского Села и постройкой нескольких барских дач в этой загородной резиденции Александра II. Затем им были спроектированы и выстроены в Петербурге дома для графа Новосильцева, графини Апраксиной, князя Воронцова (на Мойке), графа П.С. Строганова. В 1858 году И.А. Монигетти, получив профессорский титул как художник, уже заслуживший почетную известность, занялся возведением по своим личным проектам различных зданий на летней императорской даче в Ливадии на Южном берегу Крыма, согласно классическому итальянскому архитектурному стилю XIX века. И.А. Монигетти надеялся закончить работы к осени 1864 года, но заказы от царской семьи следовали один за другим, и завершилось строительство летней резиденции только в июне 1866 года. Незадолго до первого приезда Александра II с семьей в Ливадию Департамент уделов получил указ императора: «Купленное недвижимое в Крыму имение Ливадия со всеми строениями и принадлежностями, предоставляя в дар любезнейшей супруге моей государыне императрице Марии Александровне, повелеваю Департаменту уделов зачислить это имение в собственность ея императорского величества». Таким образом, императрица Мария Александровна стала первой из династии Романовых владелицей Ливадии – одного из самых крупных на Южном берегу Крыма имений, – к 1868 году его площадь составляла 300 десятин (основная дометрическая русская мера площади, равная 2400 квадратных саженей, или 1,09 га, так называемая казенная. В XVIII – начале XIX века использовалась десятина владельческая, равная 3200 квадратным саженям, или 1,45 га).
Интересный факт: площадь бывшей резиденции М.С. Горбачева, а впоследствии и Б.Н. Ельцина госдачи Барвиха-4 (расположена на 5-м километре Рублево-Успенского шоссе, недалеко от деревни Раздоры) составляла «всего» 66 гектаров, что, конечно, несомненно, меньше площади имения Ливадия в Крыму.
Первый высочайший приезд в Ливадию императора Александра II состоялся 22 августа 1866 года. Как и следовало ожидать, царская чета Романовых была в неописуемом восторге от своего нового приобретения – летней резиденции Ливадия.
Великолепные дворцы и особняки в Крыму, возведенные для членов императорской фамилии, окруженные роскошными садами, до сей поры являются уникальными памятниками дворцово-парковой архитектуры мирового значения. Российские императоры и великие князья любили отдыхать в Крыму до 1917 года, в окружении чарующей природы от столичной суеты и важных государственных дел. Кроме царской фамилии, в Крым с середины 70-х годов XIX века массово потянулись свежеиспеченные российские нувориши и дворяне из знатных родов с еще пока не потраченным состоянием. Более того, отдых в Крыму для знати Петербурга и Москвы стал крайне престижным, и по этой причине после 1866 года на полуострове начались массовая скупка пустующих земель и возведение на них роскошных особняков. Между тем причин для того, чтобы летняя резиденция императорского дома разместилась именно на полуострове Крым, имелось множество. Я ниже их перечислю, так как для несведущих людей, плохо знающих специфику размещения и охраны правительственных резиденций, подчас трудно понять истинные мотивы, побудившие чету Романовых обосноваться именно в имении Ливадия на территории Крымского полуострова.
Итак, причины, побудившие чету Романовых и лично Александра II разместить свою первую летнюю резиденцию в Крыму:
1. Ф.Я. Карелль, врач, являющийся лейб-медиком при императорах Николае I (с 1849 года) и Александре II (с 1855 года), пользующийся непререкаемым авторитетом, неоднократно советовал чете Романовых построить имение на территории полуострова Крым для летнего отдыха, в целях профилактики появления простудных заболеваний, а также ранней стадии туберкулеза, характерных для северо-западной части Российской империи. Именно Ф.Я. Каррель и стал первым врачом, который озвучил вариант летнего отдыха в Крыму, а именно на территории ЮБК, сравнивая его с климатом Лигурии (административный регион Италии, расположенный на северном побережье Лигурийского моря).
2. Одним из главных пропагандистов и теоретиков профилактического пребывания летом в Крыму для четы Романовых стал русский врач-терапевт С.П. Боткин, с 1870 года назначенный на почетную и крайне ответственную должность лейб-медика при императорской фамилии. Конечно же Александр II и до С.П. Боткина каждый год, начиная с 1866 года, отдыхал в имении Ливадия, больше уделяя внимания собственной персоне и здоровью своей новой пассии. Однако состояние здоровья его жены – императрицы Марии Александровны – вынудило его согласиться с доводами С.П. Боткина и заняться систематическим лечением супруги, благодаря чему ее самочувствие значительно улучшилось. По свидетельству современников Александра II, император крайне скептически относился к советам врачей, и особенно к советам лейб-медиков, внимательно выслушивая последних и делая все наоборот. По этой причине утверждать то, что Александр II решил расположить летнюю резиденцию в Крыму только по увещеваниям и неким «рекомендациям» С.П. Боткина, совершенно безосновательно. Александр II, как и любой мужчина, в первую очередь считал, что нужно решить проблему в корне, и по этой причине решал ее в соответствии со своим мировоззрением. Поэтому, когда перед императором был поставлен вопрос ребром о лечении его супруги и четко были определены методы купирования заболевания, Александр II, не особо задумываясь о последствиях, просто «спихнул» надоевшую Марию Александровну в Ливадию, а впоследствии и сам с фавориткой «вдохновился» идеями С.П. Боткина о целебности крымского климата.

Русский врач-терапевт и общественный деятель Сергей Петрович Боткин
Замечу, что жена императора Александра II – Мария Александровна родила царю семерых детей. Роды и склонность императрицы к простудам сделали свое дело, и во второй половине 60-х годов это была больная, психологически сломленная смертью старшего сына женщина, муж которой больше времени уделял фавориткам, чем здоровью жены. 22 ноября 1870 года высочайшим указом Александра II врач С.П. Боткин назначается почетным лейб-медиком, а главным объектом его забот и лечения становится императрица Мария Александровна. 14 марта 1872 года императрица уезжает в сопровождении своего доктора в Крым. Министр государственных имуществ Российской империи П.А. Валуев отмечает этот день в дневнике следующим образом: «О свойстве и степени болезни трудно иметь точное понятие при множестве разноречивых толков. Кажется, однако же, что легкие действительно поражены и что доктор Гартман не заметил зла своевременно и его запустил. Доктор Боткин определил болезнь, и поездка в Крым предпринята по его личному настоянию».
Между тем С.П. Боткин пишет 11 апреля 1872 года министру императорского двора А.В. Адлербергу: «Здоровье императрицы с каждым днем заметно улучшается; кашель становится все слабее и слабее, хрипов в груди все меньше и наконец их было так мало, при этом дыхание было свободно… конечно, хрипы еще слышны, но их, может быть, в десять раз меньше, сравнивая с тем количеством, которое было в начале нашего переезда в Крым, ночь проходит теперь совсем без кашля, и днем Ее Величество может говорить и даже смеяться, не платя за каждый раз кашлем, как это бывало прежде… прогулка без поддержки под руку была несколько затруднительна, теперь же императрица прогуливается без помощи довольно свободно».
3. Главноначальствующий Третьего отделения собственной е. и. в. канцелярии – князь Василий Андреевич Долгоруков, при Александре II и шеф корпуса жандармов (с 1855 по 1866 год), обладающий весьма сильным влиянием на императора, на протяжении всего своего руководства службой госбезопасности страны был ярым и бескомпромиссным противником размещения летних резиденций четы Романовых на Черноморском побережье Кавказа. Причина была одна – недавно отшумевшая Кавказская война, а точнее, ее последняя фаза, покорение Черкесии (сентябрь 1859 – 21 мая 1864 года). Практически вся территория современного Краснодарского края и Республики Абхазии в тот период представляла собой сплошной партизанский край, где могли убить когда угодно и кого угодно, несмотря на то что 21 мая 1864 года в горном селении Кбаадэ, в лагере соединившихся русских колонн, в присутствии великого князя Михаила Николаевича, был отслужен благодарственный молебен по случаю победы в Кавказской войне. Вероятность нападения на чету Романовых, их убийство или взятие в плен на Черноморском побережье Кавказа, при размещении там летней резиденции, была очень велика.
4. Чрезвычайно большую опасность для царской четы представляло заболевание малярией. Как известно, малярия – это инфекционное заболевание, передающееся посредством укуса комаров рода Anopheles. Влажность климата Черноморского побережья Кавказа и обилие заболоченных участков создавали идеальные условия для жизнедеятельности комаров, вследствие чего в XIX и начале ХХ века малярия была главным бичом этих мест. От малярии погибло на Кавказе в несколько раз больше русских солдат, чем от стычек с горцами. Планомерная борьба с малярией началась в районе г. Сочи лишь в 20-х годах ХХ века, по инициативе врача Сергея Юрьевича Соколова. Эта борьба велась в двух направлениях – лечение больных и профилактика, а именно истребление разносчика – комара рода Anopheles. Противомалярийные мероприятия проводились очень разнообразные: осушение заболоченной местности, опыление и нефтевание водоемов. На территории Крыма, в отличие от Черноморского побережья Кавказа, эпидемиологические предпосылки появления очагов малярии в XIX веке были значительно ниже, так как в этом регионе не было большого количества горных рек, больших пресноводных водоемов с заболоченными участками и благоприятного для размножения комаров субтропического климата. Микрорегион (фактически горно-климатический курорт), в котором располагалось имение Ливадия, отличался особым климатом и наличием большого количества вековых сосен, создающих полезный для легких человека фитоценоз. Также на близлежащих территориях не протекали реки и не было иных пресноводных водоемов, где смогли размножаться личинки малярийных комаров. Отмечу, что в то время Крымский полуостров считал безопасной территорией для проживания с точки зрения наличия очагов опасных болезней и лейб-медик Ф.Я. Карелль.
5. Особое значение в выборе места своей летней резиденции на территории Крыма, а именно в Ливадии, Александр II придавал своим пылким любовным свиданиям с фавориткой – княжной Е.М. Долгорукой (Юрьевской), которые затем переросли в морганатический брак. После смерти императрицы Марии Александровны, в девичестве принцессы Максимилианы-Вильгельмины-Августы-Софьи-Марии Гессен-Дармштадтской, от туберкулеза, император смог переехать в имение Ливадия уже не таясь с возлюбленной и проводить летние месяцы на море в своей личной резиденции. По воспоминаниям председателя комитета министров П.А. Валуева, который оставил после своей смерти многочисленные дневники: «…Государь с лета 1866 года был озабочен больше поиском подходящего домика для княжны Долгорукой в Ливадии, чем состоянием Марии Александровны, которая после смерти Николаши стала страдать частыми мигренями и депрессиями…»

Император Александр II со второй супругой Екатериной Долгорукойи детьми
6. Чрезвычайно важное геополитическое значение с точки зрения размещения летней резиденции имело присутствие на Крымском полуострове агрессивно или нейтрально настроенных коренных этнических групп населения, среди которых преобладали так называемые крымские татары, греки-туркофоны, урумы и караимы. Крымские татары как самостоятельный этнос сформировались в Крыму в XIII–XVII веках. Историческим ядром крымско-татарского этноса являются тюркские племена из кипчако-огузской группы, осевшие в Крыму, которые смешались с местными потомками гуннов, хазар, печенегов, а также представителями дотюркского населения Крыма. После окончания Крымской войны (1853-25.02.1856) начался массовый исход в Турцию крымских татар (около 198 тысяч человек) и принудительное выселение русской военной администрацией понтийских греков-эллино-фонов и урумов в Приазовье. «Освободившееся» место под крымским солнцем, по желанию русской царской администрации, должны были занять православные болгары, приглашенные на постоянное местожительство из Турции, как специалисты аграрного сектора по выращиванию винограда, бахчевых и фруктов. Тем не менее к концу 70-х годов XIX века в Крыму основное население все-таки составляли именно крымские татары, примерно 127 тысяч человек.
Несмотря на активное заселение Крыма после 1958 года украинцами из Малороссии и русскими из южных регионов Российской империи, кипчако-огузский этнос активно сопротивлялся ассимиляции и в целом сохранил враждебное отношение к царскому правительству вплоть до начала 80-х годов XIX века. Несмотря на мелкие вооруженные восстания и активное противодействие царской администрации во всех областях жизни, крымские татары не пытались повернуть вспять историю и вырезать поголовно всех русских во главе с императором, находящимся в Ливадии лишь по одной простой причине. Русская армия и в дальнейшем административные органы Российской империи, ставшие единственно правомочными на территории Крыма с 1856 года, не пытались разрушить уклад жизни татар, и в том числе совершенно не имели претензии к их мусульманскому вероисповеданию. И этот неоспоримый факт терпимого отношения к присутствию мечетей на земле Крыма татары очень ценили, не сделав с 1856 по 1917 год ни одного вооруженного нападения на царскую чету, хотя могли это совершить многократно.
Как известно, впоследствии главным врагом у Александра II стали террористические организации «Земля и воля» и «Народная воля», а не «страшные и кровожадные крымские татары» из Бахчисарая. Примечательно, что крымские татары в период с 1917 по 1941 год получили от СССР чрезвычайно широкие права по выборам в местные органы самоуправления, им построили школы с преподаванием на родном языке и многое другое. Однако при приходе в ноябре 1941 года немецких войск на Крымский полуостров и последующей оккупации, большая часть крымско-татарского населения поддержала агрессора по причине массового открытия мечетей и разрешения исполнения религиозных обрядов.
Гипотетически можно сейчас предположить, что если бы царская администрация с 1856 года стала активно бороться с мусульманством в Крыму, то получила «на выходе» крупномасштабную партизанскую войну, где имение Ливадия долго не просуществовало. Царской администрации, лично Александру II и главе Третьего отделения В.И. Долгорукову, а после П.А. Шувалову хватило ума не сносить мечети и не обращать крымских татар в православие. Более того, начиная с сентября 1862 года в Императорском конвое был учрежден Крымско-татарский эскадрон для охраны четы Романовых и лично Александра II. В мае 1863 года после упразднения крымско-татарского эскадрона в состав конвоя вошла команда лейб-гвардии крымских татар. Замечу, что в декабре 1891 года данное формирование из крымских татар было тихо и без лишней огласки расформировано.
7. Особое значение в охране царской четы в Крыму, после покупки летней резиденции в Ливадии, стал иметь российский флот, базирующийся в бухтах Севастополя. В 1857 году российское правительство утвердило первую после Крымской войны судостроительную программу сроком на двадцать лет. Согласно этой программе планировалась постройка: для Балтийского моря – 153 винтовых кораблей (18 линейных, 12 фрегатов, 14 корветов, 100 канонерских лодок и 9 колесных пароходов); для Черного моря (с учетом ограничений, обусловленных Парижским договором) – 15 винтовых кораблей (6 корветов и 9 транспортов) и 4 колесных пароходов; для Тихого океана – 20 винтовых кораблей (6 корветов, 6 клиперов, 5 пароходов, 2 транспортов и шхуны). Фактически, кроме самой акватории Черного моря и Крымского полуострова, Черноморский флот был обязан в дни пребывания царской четы на отдыхе в Ливадии нести охрану и круглосуточное дежурство на ялтинском рейде, для чего из севастопольской эскадры выделялось три винтовых парохода, две канонерские лодки и императорская яхта «Тигр».

Царская яхта «Тигр» на рейде Севастополя. 1869 год
В связи с запретом иметь России военный флот на Черном море согласно Парижскому миру было «высочайше повелено… не ставя на пароходе «Тигр» артиллерии и заделав обшивками пушечные порты, считать его императорской яхтой и под яхтенным флагом вывести для плавания по Черному морю». Интересно, что, хотя яхта «Тигр» числилась в составе Черноморского флота 14 лет (до 1872 года), о плаваниях на ней царской семьи сведений почти не сохранилось, кроме упоминания о переходе в августе 1861 года Александра II с семьей из Севастополя в свое новое имение Ливадию. Художник А.П. Боголюбов писал: «…пришла пора его высочеству оставлять Ливадию, а потому, распрощавшись, мы поместились на военный пароход «Тигр», весьма плохую царскую яхту, и отбыли в Севастополь».
8. Стратегически важным и крайне необходимым для безопасного размещения царской резиденции в Ливадии стало строительство портовых сооружений в Ялте, так как императора Александра II с его семьей начиная с 1866 года до места отдыха можно было доставить или гужевым транспортом, или на судне по Черному морю. Замечу, что после
Крымской войны начали появляться различные проекты строительства железной дороги, способной связать полуостров с Большой землей. Однако реализовать задуманное удалось только в 1875 году, когда московским купцом и промышленником Петром Губониным был построен участок железной дороги от станции Лозовой (современная Харьковская область) до Севастополя. Дорогу длиной в 665 км построили за 4 года. До 1875 года император с семьей от Санкт-Петербурга до Ливадии добирался двумя путями. Первый предполагал достаточно «короткий» путь от столицы империи до Москвы на поезде по железной дороге (открыта в 1855 году), затем на карете до Таганрога, а от этого порта на Азовском море через Керченский пролив на судне до Ялты. Второй путь, более продолжительный, предусматривал как промежуточный пункт город-порт Николаев. Путешествия в Крым для слабой здоровьем императрицы Марии Александровны были очень утомительными. Для нее старались спланировать как можно более «спокойный» маршрут, чтобы большая его часть проходила по железной дороге и по воде. Так, в 1866 году Мария Александровна выехала в Крым из Царского Села 11 сентября. Маршрут проходил следующим образом: на лошадях от Царского Села до станции Саблино и далее по железной дороге до Москвы. Затем на лошадях до города-порта Николаева, через Тулу, Орел и Полтаву. От Николаева по Черному морю на судне до Ялты. От нее по грунтовому шоссе до имения Ливадия. Весь маршрут протяженностью 2328 верст занял семь дней.
За 37 лет до прибытия царской четы в Ливадию, в 1829 году, по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской губернии графа М.С. Воронцова в Ялте начинается строительство каменного мола для защиты бухты от штормовых волн. 1 августа (14 августа по новому стилю) 1833 года в торжественной обстановке был заложен первый каменный блок в «корень будущего мола каменного». Этот день считается днем рождения Ялтинского порта. Строительство первой очереди портовых сооружений заканчивается в 1837 году. Одновременно начинается бурный рост поселка вокруг порта, который заселяют преимущественно переселенцы из Малороссии. Указом императора Николая I от 23 марта (4 апреля) Ялте присваивается статус уездного города. Дважды осенне-зимние штормы разрушали построенные молы и часть портовых сооружений в Ялте, пока в 1887 году не приступили к строительству капитального каменного мола и набережной под общим руководством инженер-генерал-майора в отставке, гидростроителя, замечательного краеведа, жителя Ялты Александра Львовича Бертье-Делагарда. Строительство продолжалось до 1890 года. Впоследствии, опять под руководством А.Л. Бертье-Делагарда, мол и набережная города были удлинены, количество причалов увеличено, порт и город приобретают знакомый нам вид. В 1866 году, из-за отсутствия нормальных причальных сооружений, и в последующие годы Александр II и его семья вынуждены были причаливать сначала на судне к двухпалубному дебаркадеру, от которого добирались до берега на паровом рейдовом катере.
Следует напомнить читателю, что первую ознакомительную поездку, так называемый «таврический вояж», на Крымский полуостров предприняла еще императрица Екатерина II, длившуюся с 2 января по 11 июля 1787 года. Это было беспрецедентное по масштабам, числу участников, стоимости и времени в пути путешествие Екатерины II и ее двора, длившееся в итоге более полугода. А в 1837 году в Крым впервые выехала семья императора Николая I. Именно тогда императрица Александра Федоровна получила от Николая I в подарок поместье Ореанда «с одним условием, что Папа совершенно не будет заботиться о нем и что она выстроит себе там такой дом, какой ей захочется». Замечу между тем, что недалеко от этого царского имения, в так называемой Нижней Ореанде, на склоне горы Могаби, в 1956 году был построен объект Девятого управления КГБ СССР – правительственная резиденция для первых лиц СССР, которая долгое время была в пользовании генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Впрочем, более подробно об этом, несомненно, историческом здании и многих других госдачах в Крыму я расскажу ниже. Впоследствии архитектор А.И. Штакеншнейдер построил в Ореанде дворец, отошедший после смерти Александры Федоровны в собственность ее второго сына великого князя Константина Николаевича.
9. Возвращаясь к теме размещения четы Романовых в имении Ливадия, необходимо подчеркнуть тот факт, что 2 мая 1866 года была создана специальная Охранительная команда Третьего отделения собственной е. и. в. канцелярии, призванная заниматься исключительно охраной царской четы на отдыхе, в поездках по стране и за рубежом, а также осуществлять оперативно-агентурную работу по предотвращению террористических актов. Можно утверждать и так, что создание подобной охранной государственной структуры не случайно совпало с учреждением летней резиденции императора Александра II в Ливадии.
В настоящее время наследником данной структуры является Управление личной охраны ФСО РФ и Служба безопасности президента, входящая в первую организацию, деятельность которой регламентируется Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране» (с изменениями и дополнениями). Сразу оговорюсь, что СБП (глава с сентября 2013 года генерал-майор О. Климентьев) и УЛО – два совершенно разных подразделения ФСО РФ. Да, цель у них общая – обеспечение охраны и защиты президента и первых лиц государства. Но они совершенно разнятся по структуре, внутренним задачам и способу их выполнения. По большому счету СБП – это один из самых отлаженных, наряду с СВР и ФСБ, субъект оперативно-разыскной деятельности. Но в отличие от своих «собратьев» СБП ориентирована на совершенно иную «целевую аудиторию». Ее деятельность затрагивает процессы как внутри страны, так и за пределами России. А основная задача – предотвращение насильственного свержения власти, попыток изменения конституционного строя и пр.
Однако, конечно, самым «близким к телу» является Управление личной охраны, унаследовавшее дела 18-го отделения 1-го отдела Девятого управления охраны КГБ СССР. В его задачи входит не только охрана главы государства, но и его ближайшего окружения, родственников, людей, занимающих самые высокие посты в стране, ну и конечно же охраняют они и первых лиц иностранных держав, находящихся с визитом в России. Непосредственным поводом к формированию 2 мая 1866 года специальной «охранительной» (негласной) команды Третьего отделения собственной е. и. в. канцелярии стало первое покушение на императора Александра II, совершенное 4 апреля 1866 года.
Это событие показало, что, несмотря на усилия многочисленных ведомств, эффективность существовавших подразделений государственной охраны оказалась на деле невысокой. Конечно, сам факт покушения на императора повлиял на персональный состав силовых ведомств, связанных с организацией охраны Александра II. Шеф жандармов В.А. Долгоруков 8 апреля 1866 года подал в отставку. В его личных мемуарах упоминается, что он заявил: «Пусть вся Россия знает, что я уволен за неумение охранять моего государя». Как мы видим, самокритики у главы госбезопасности Российской империи было с избытком, а вот таланта организовать отлаженную систему охраны первого лица государства не хватило, по большой части из-за чистоплюйства и незнания методов оперативно-агентурной работы среди населения.
После отставки В.А. Долгорукова к руководству Третьим отделением пришел весьма прагматичный и малоразборчивый в достижении поставленных задач П.А. Шувалов. Он восемь лет возглавлял политическую полицию Российской империи. По свидетельству современников, это был жесткий и умный вельможа, пользовавшийся значительным влиянием при дворе и умевший заставить уважать его и принятые им лично решения. Он имел опыт рутинной полицейской работы, а его «спокойствие и самообладание давали ему то, что так редко приходится встречать в наших государственных людях, – умение слушать и задавать вопросы, а это на посту шефа жандармов, очевидно, было главное», – утверждал в своих воспоминаниях П.А. Валуев.

Петр Андреевич Шувалов – генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета, шеф жандармов и начальник Третьего отделения. За свое огромное влияние на Александра II и крутой нрав получил характерное прозвище Петр IV
2 мая 1866 года Александр II утвердил проект и штаты нового подразделения правительственной охраны. Уже 4 мая 1866 года П.А. Шувалов отчитался перед царем о создании костяка «охранительной команды» и ее возможных методах оперативно-агентурной и боевой работы. Первым командиром этого спецподразделения правительственной охраны стал надворный советник Н.Е. Шляхтин, служивший прежде в Москве полицейским приставом и отличавшийся обширным штатом завербованных осведомителей. Его помощниками назначили капитана жандармерии Н.М. Пруссака, служившего прежде начальником жандармской команды в г. Ревель (сейчас г. Таллин), и поручика А.И. Полякова, ранее служившего в варшавской полиции. Принципиально важным стало привлечение на службу штатных секретных агентов, которым можно было доверять и не бояться их перевербовки. Ими были назначены мещанин И. Кожухов (агент Третьего отделения с 1857 года), отставной губернский секретарь А. Новицкий и рижский гражданин И. Кильвейн. Нижних чинов набрали сначала 20 человек, но к концу мая охранную команду Третьего отделения полностью укомплектовали «нижними чинами»… П.А. Валуев в данном случае упоминал, что уже летом 1866 года, во время отдыха царя в подмосковном имении Ильинском, Александра II серьезно рассердило то, что он впервые увидел «переодетых агентов Шуваловской охраны везде, где Государь гулял… Но граф Шувалов, взявшись за свое дело серьезно, не смутился этим впечатлением Государя и завел действительно умную полицию, способную охранять везде, как в Петербурге, так и в Ливадии».
Градоначальник Петербурга Ф.Ф. Трепов лично составил «Положение об Охранной страже» и инструкцию для ее чинов. В разработанном к середине мая 1866 года проекте инструкции с бюрократической дотошностью в тридцати параграфах регламентировался порядок несения охранной службы, правила поведения стражников при организации наружного наблюдения. В инструкции определялась даже форма примерных ответов на вопросы об императорской фамилии вплоть до «особо вежливого, но непреклонного отношения к дамам при их желании приблизиться к императору». В этом документе указывалось, что охранная стража «пребывает постоянно там, где изволит присутствовать государь император или члены императорской фамилии». Так, «в садах, где августейшие особы изволят прогуливаться», стражники обязаны заблаговременно осматривать «аллеи и места, по которым обыкновенно прогулка бывает» и «обращать внимание на то, не скрывается ли кто-нибудь в клумбах, кустах или за деревьями и постройками». «При отсутствии публики» полагалось «держаться на значительном расстоянии, дабы не обращать на себя внимание», а в случае «появления публики» необходимо задержать лиц, которые, «пробираясь сквозь толпу, стараются приблизиться к высочайшим особам с подозрительными намерениями», а также «лиц, заметно переодетых в платье крестьянское или другое, несообразное с их наружностью и, очевидно, одетое с какой-нибудь предубедительной целью». В мае 1866 года всем сотрудникам охранной стражи выдали пронумерованные служебные удостоверения, напечатанные на бумаге с водяными знаками, в которых указывалось, что «предъявитель сего состоит при III Отделении». Сотрудники правительственной спецслужбы охраняли царя в статском платье, на которое выделялись специальные средства, и лишь «в особых случаях» малая часть охраны могла быть «наряжена» в форменную одежду. В инструкции подчеркивалось, что стражники «должны держать себя так, чтобы на них не было обращено внимание общества». Они не должны никому сообщать о своих обязанностях, «когда им необходимо содействие наружной полиции, они предъявляют только свои особые билеты, которые отнюдь не передают никому под страхом самой строгой ответственности».
Особое значение при охране персоны Александра II в Зимнем дворце, Царском Селе, в поездках по стране, а также на отдыхе в Ливадии играл так называемый собственный его императорского величества конвой (далее в тексте СЕИВК), воинское подразделение в составе двух эскадронов (в эскадроне 100–120 человек). У кабинета государя стояли всего лишь унтер-офицер и два казака. И только во время приемов и балов в охрану царя назначались из конвоя «для снятия пальто» семь нижних чинов. Одно время командовал конвоем флигель-адъютант полковник Петр Романович Багратион, а в 1858–1864 годах – генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Скобелев, отец Белого генерала Михаила Дмитриевича Скобелева.
Основным этническим ядром конвоя были казаки из Терского и Кубанского казачьих войск. В конвое также проходили службу черкесы, ногайцы, другие горцы-мусульмане Кавказа, азербайджанцы (команда мусульман, с 1857 года четвертый взвод лейб-гвардии Кавказского эскадрона), грузины, крымские татары, другие народности Российской империи. Официальной датой основания конвоя считается 18 мая 1811 года. 30 апреля 1917 года, по решению и декрету Временного правительства, СЕИВК был расформирован и отправлен по домам, а некоторые офицеры данного формирования составили костяк кавказской конной туземной дивизии (так называемый Кавказский туземный конный корпус), или Дикой дивизии, участвовавшей в Гражданской войне на стороне А. Деникина и А. Колчака.
При отдыхе Александра II и других монархов в Крыму основные обязанности СЕИВК были следующие:
1. Охрана внешнего периметра резиденции Ливадия.
2. Охрана внутреннего периметра резиденции Ливадия на территории лесопарковой зоны и во дворце вместе с охранной командой Третьего отделения.
3. Зачистка трассы от посторонних лиц и конных экипажей перед и во время следования эскорта Александра II.
4. Устройство мобильных засад в пути следования эскорта для блокирования лиц с террористической направленностью и профилактика отслеживания потенциальных информаторов, следящих за маршрутами царской четы.
5. Блокирование агрессивных толп людей, разбор завалов и связывание встречным боем террористических групп из организаций «Народная воля» и «Земля и воля».
6. Эвакуация императора Александра II при попытках террористических актов с места нападения, а также подмена лошадей в карете при случае их гибели во время взрыва или стрельбы.
Часто у людей несведующих возникает вполне законный вопрос: а часто ли монаршие особы Российской империи пребывали на отдыхе в имении Ливадия? Так как я начал повествование с родоначальника госдач в Крыму, а именно с Александра II, то на данный вопрос ответить можно следующим образом. Повторно, то есть после лета 1866 года, августейшая семья приехала лишь через два года, в июле 1869-го. Путешествовали Романовы сначала поездом до Одессы, потом по Черному морю до Севастополя, а уже от него до Ялты. Обращу внимание читателей на тот факт, что только в 1863 году в Петербурге решили провести из Одессы в Балту (город районного значения в Одесской области Украины, административный центр Балтского района) стратегически важную железную дорогу на государственные средства. Одной из главных целей прокладывания данной железной дороги, кроме доставки войск в южные регионы империи, было укорачивание маршрута следования Александра II с семьей от Санкт-Петербурга до имения Ливадия.

Лейб-гвардии Кавказский казачий эскадрон СЕИВ конвоя. Обер-офицер в обыкновенной форме. Ливадия, 1864 год
Для управления строительными работами прислали барона Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга, поручив общее руководство проектом губернатору края – генерал-адъютанту П.Е. Коцебу. 4 мая 1863 года состоялась торжественная закладка Одесско-Парканской железной дороги, а затем началось сооружение ширококолейной ветки от Раздельной до Балты. В декабре 1864 года, на основании высочайшего указа Александра II, Одесско-Балтскую железную дорогу начнут прокладывать по новому маршруту – через Кременчуг до Харькова. В 1869 году летнюю резиденцию Ливадия посетил наследник династии Романовых – великий князь Александр Александрович (будущий император Александр III, отец Николая II) с супругой Марией Федоровной.
Наследник поселился в специально построенном для него дворце, который ему очень понравился и на долгие годы стал любимым местом отдыха. Здесь царская семья могла расслабиться от бесконечных официальных мероприятий и строгого церемониала Северной столицы. Последний раз Александр II был в Ливадии летом 1880 года, до его трагической гибели в марте 1881 года оставалось всего полгода. В 1891 году территория царской резиденции в Ялте увеличилась за счет Ореанды, приобретенной у наследников великого князя Константина, и достигла 380 га. Все вышеназванные приобретения были оформлены на баланс Министерства императорского двора и уделов и официально числились государственной собственностью, а точнее, собственностью дома Романовых. Тут я внесу ясность и сделаю небольшую сноску по теме, разъяснив читателю, что именно за организации в XIX веке курировали государственные царские резиденции в Российской империи и как точно они назывались.
Министерство императорского двора и уделов было образовано высочайшим указом Николая I от 22 августа 1826 года путем объединения ряда разных по назначению учреждений, существовавших ранее и обслуживавших главу государства и чету Романовых. В настоящее время полным аналогом ранее существовавшей правительственной структуры является Управление делами Президента РФ, во главе которого стоит А.С. Колпаков. Министр императорского двора и уделов находился в непосредственном подчинении императора, являлся одновременно и министром уделов, руководившим Департаментом уделов, а также управляющим кабинетом е. и. в.
Как понятно из вышеприведенного текста, в структуру Министерства императорского двора и уделов, ведавшего всем движимым и недвижимым имуществом четы Романовых на территории Российской империи, входил Департамент уделов, фактически исполнявший роль Хозяйственного управления при дворе е. и. в.
Во времена СССР продолжателем традиций этой организации стало АХО ВЦИК/ХОЗУ ЦИК/СНК/Совета министров, которое по своему штатному расписанию, структуре и задачам полностью было скопировано с царского Департамента уделов секретарем Президиума ЦИК А.С. Енукидзе.
Николай Романов, последний император России, по-особенному относился к Крымскому полуострову. Он любил здесь отдыхать всей семьёй и много сделал для развития Крыма.
Возможно, это связано с тем, что Николай II стал императором именно в Крыму. Здесь, царском имении Ливадия, в октябре 1894 года умер его отец Александр III и Николай взошёл на престол. «А как же празднования в Санкт-Петербурге, начавшиеся с трагедии на Ходынском поле», - спросит иной подкованный читатель. Это были именно торжества. Современная аналогия – Владимир Путин стал президентом 19 марта, а инаугурация (официальная церемония) прошла 7 мая 2018 года.
В Крыму в Крестовоздвиженской церкви приняла православие императрица Александра Фёдоровна. Осенью и весной семья Николая II часто жила в Крыму. Есть данные, что именно в Ялту хотел перенести столицу последний император России.
При Николае Александровиче Крым расцвёл. Бурно развивались курорты, возводились роскошные отели и санатории, возникли первые музеи. В Крыму работали одарённые архитекторы, первое место занимал Николай Краснов – создатель нового Ливадийского дворца. Крым получил прозвание «Русская Ривьера». Все Романовы любили Крым. Так, в эмиграции великий князь Александр Михайлович писал: «У нас у всех осталась тоска по Крыму». Николай II был так увлечён Крымом, что даже создавал дизайн бутылок для местных вин. В апреле 2017 года винный завод «Массандра» представил публике одну из таких бутылок. Последнее посещение императором Крыма фиксируется осенью 1915 года, Севастополь и Евпатория. Побывал в Свято-Георгиевском монастыре, находившемся на крутой горе на мысе Фиолент.
Естественно, что вслед за императорской семьёй в Крым приезжали представители высшего общества, за которыми тянулись купцы и промышленники, пополняя карманы местных жителей.
Крым в 1897-1917 стал точкой роста: населения, промышленности и общественной активности жителей. С переписи 1897 года городское население Крыма выросло на 43%. И это при том, что в 1897 году городское население занимало долю в 41,8%, что было запредельно высоко для Европейской России. Впрочем, увеличивалось и количество селян, на 33% за 20 лет (с 318 до 423 тысяч человек). В 1917 году 2,4% сельского населения Крыма были болгарами, 1,3% греками, 0,8% армянами, 7,9% немцами, 12,5% украинцами, 29,3% русскими и 41,9% татарами. В том же году в городах зафиксировано 326,6 тысяч: 56,6% населения были русскими, 14,5% - евреями, 11,6% - татарами, 5% - греками, 3,6% - украинцами, 2,6% - армянами, 1,6% турками, 1,5% - поляками, 1% - немцами.
Крым активно застраивался. Строительство – не только надёжный маркер высокой деловой активности, но и один из основных факторов, подстёгивающий экономику за счёт большого количества контрагентов, втянутых в производство материалов и работ для строительства. При Николае II построено 2 дворца, Массандровский (1902) и Ливадийский (1911). Ливадийский дворец построили по последнему слову техники, хотя внешне это был стиль итальянского Возрождения. Во дворец провели электроэнергию (электростанцию построили ближе к Ялте), водоснабжение, центральное отопление и телефонную связь. Был свой автопарк. На дворец потрачено около 4 млн золотых рублей (именно при Николае II в России введено золотое денежное обращение).
Активно возводились музеи. Севастопольский военно-исторический музей открылся в новом здании в октябре 1895 года. Панорама «Оборона Севастополя» открыта 14 (27) мая 1905 года. В 1913 году в центре Симферополя построили здание Офицерского собрания 51-го Литовского пехотного полка. Позже здесь был создан Симферопольский художественный музей. Во время строительства в Феодосии морского порта в конце XIX века найденные археологами артефакты переданы в Феодосийский музей древностей, старейший на Юге России. В конце XIX века основаны предшественники Центрального музея Тавриды: Музей древностей Таврической ученой архивной комиссии (1887) и Естественно исторический музей Таврического губернского земства (1899). Первый в Ялте музей открыли 27 сентября (8 октября) 1892 года при Ялтинском отделении Крымского горного клуба. В 1916 году создан Музей старины в Евпатории. В этом же году местная общественность добилась создания в Бахчисарае отдела петроградского «Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины». Одной из его задач стало создание в ханском дворце художественно-исторического музея.
Возводилась транспортная инфраструктура. Например, недавно открытый Крымский мост был задуман ещё Николаем II. Первые изыскательские работы проведены в 1903–1906 годах. Мост должен был стать частью железной дороги, которая позволит круглый год вывозить товары с Таманского полуострова. Из двух вариантов направления Николай II выбрал южное, в 1910 году началась активная разработка проекта. Будущими выгодоприобретателями были: Керчь, Бердянск, Мариуполь, Темрюк, Прикубанский край и Майкопский нефтеносный район. Мост планировался в 11 пролётов на каменных опорах. Для пропуска морских судов создали разводной пролетный механизм на электродвигателях, питающихся от специальной электростанции на крымском берегу. Мост планировалось оснастить подсветкой, сигнализацией и небольшими ледорезами со стороны Азовского моря. Первая мировая война прервала работы над проектом.
В Крыму, на Южном берегу, в Кореизе, есть парк, окруженный высокой зубчатой стеной. Там среди пальм скрывается белоснежный дворец с серебристыми куполами, причудливым восточным декором и арабской надписью над входом: «Да благословит Аллах входящего». Дюльбер (в переводе с тюркского – «прекрасный») – имение великого князя Петра Николаевича (внука императора Николая I). Построенный в середине 90-х годов XIX века, в первые десятилетия своего существования Дюльбер стал свидетелем весьма драматических событий. Собственно, историй, связанных с ним две, и они очень разные. Но двойственность тут, пожалуй, кстати. Без неё вообще не обойтись, когда речь заходит о русской революции, гибели Российской империи и судьбе династии Романовых. Здесь все по-своему правы и по-своему виноваты… И сочувствие тоже вызывают все. Итак, два сюжета о Дюльбере. Трагический и авантюрный. Можно сказать, один о том, как рушилась империя, другой о том, почему…
Дюльбер. Фото Василия ФиногеноваСюжет первый. Узники Дюльбера
В Дюльбере в 1918-м году оказались под домашним арестом пятнадцать Романовых и двое членов их семей. Это сам владелец имения Пётр Николаевич с супругой и двумя детьми. Его родной брат – великий князь Николай Николаевич (любимец армии, Верховный Главнокомандующий в начале Первой мировой войны) с женой, черногорской принцессой и ее двумя детьми от первого брака. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и её взрослая дочь (сестра Николая II) великая княгиня Ксения Александровна с мужем великим князем Александром Михайловичем (знаменитым , внуком Николая I и двоюродным дядей, а также любимым другом Николая II) с шестерыми сыновьями, носившими титул князей императорской крови .
 Феликс Юсупов с женой Ириной
Феликс Юсупов с женой Ириной
Некоторых оказавшихся на тот момент в Крыму членов семьи Романовых новая власть, впрочем, отпустила : в частности дочь Ксении и Сандро Ирина с мужем Феликсом Юсуповым (убийцей Распутина) остались на свободе и всё пытались наладить связь с пленниками Дюльбера. Феликс Юсупов вспоминал: «Навещать их позволили только двухлетней дочери нашей. Дочка стала нашим почтальоном. Няня подводила ее к воротам именья. Малышка входила, пронося с собой письма, подколотые булавкой к ее пальтецу. Тем же путем посылался ответ. Даром что мала, письмоноша наша ни разу не сдрейфила. Таким образом знали мы, как живут пленники. Кормили их скверно и скудно. Повар Корнилов, впоследствии хозяин известного парижского ресторана, старался, как мог, варил щи из топора. Чаще всего были суп гороховый да черная каша. Неделю питались ослятиной. Еще одну – козлятиной. Зная, что по временам они гуляют в парке, жена придумала способ поговорить с братьями. Мы шли выгуливать собак у стен именья. Ирина что-нибудь кричала собакам, и мальчики тотчас взлезали на стену. Завидев поблизости охранника, они спрыгивали обратно, а мы преспокойно шли дальше. Увы, скоро нас раскусили и свиданья у стен пресекли».
На самом деле, арест этот был не таким уж и жестоким делом, как может показаться из воспоминаний Юсупова. После октябрьской революции узников свезли в Дюльбер из родовых крымских имений – Кореиза, Чаира, Ай-Тодора, где они с самого февраля 1918-го содержалась под домашним арестом, вовсе не ради ужесточения режима. Дело в толстых и высоких стенах Дюльбера. За ними революционные матросы Севастопольского совета рабочих и солдатских депутатов спасали Романовых от других революционных матросов, Ялтинских. Дело в том, что Ялтинский совет постановил всех Романовых немедленно расстрелять, а более дисциплинированные севастопольцы ждали распоряжений от Ленина. За зубцами Дюльбера разместили пулемёты – к бою красных с красными готовились всерьёз. Непосредственный участник событий, в.к. Александр Михайлович (Сандро), писал в своих воспоминаниях:
«Я никогда не думал о том, что прекрасная вилла Петра Николаевича имеет так много преимуществ с чисто военной точки зрения. Когда он начал ее строить, мы подсмеивались над чрезмерной высотой его толстых стен и высказывали предположение, что он, вероятно, собирается начать жизнь «Синей бороды». Но наши насмешки не изменили решения Петра Николаевича. Он говорил, что никогда нельзя знать, что готовит нам отдаленное будущее. Благодаря его предусмотрительности Севастопольский совет располагал в ноябре 1917 года хорошо защищенной крепостью.
 Стена, которой обнесен дворцово-парковый ансамбль Дюльбер. Фото Василия Финогенова
Стена, которой обнесен дворцово-парковый ансамбль Дюльбер. Фото Василия Финогенова
События последующих пяти месяцев подтвердили справедливость опасений новых тюремщиков. Через каждую неделю Ялтинский совет посылал своих представителей в Дюльбер, чтобы вести переговоры с нашими неожиданными защитниками. Тяжелые подводы, нагруженные солдатами и пулеметами, останавливались у стен Дюльбера. Прибывшие требовали, чтобы к ним вышел комиссар Севастопольского совета товарищ Задорожный. Товарищ Задорожный, здоровенный парень двух метров росту, приближался к воротам и расспрашивал новоприбывших о целях их визита. Мы же, которым в таких случаях было предложено не выходить из дома, слышали через открытые окна обычно следующий диалог:
— Задорожный, довольно разговаривать! Надоело! Ялтинский совет предъявляет свои права на Романовых, которых Севастопольский совет держит за собою незаконно. Мы даем пять минут на размышление.
— Пошлите Ялтинский совет к черту! Вы мне надоели. Убирайтесь, а не то я дам отведать Севастопольского свинцу!
— Они вам дорого заплатили, товарищ Задорожный?
— Достаточно, чтобы хватило на ваши похороны. <…>
Молодой человек в кожаной куртке и таких же галифе, бывший представителем Ялтинского совдепа, пытался нередко обратиться с речью к севастопольским пулеметчикам, которых хотя и не было видно, но чье присутствие где-то на вершине стен он чувствовал. Он говорил об исторической необходимости бороться против контрреволюции, призывал их к чувству пролетарской справедливости и упоминал о неизбежности виселицы для всех изменников. Те молчали. Иногда они бросали в него камушками или же даже окурками. <…> Великий Князь Николай Николаевич не мог понять, почему я вступал с Задорожным в бесконечные разговоры.
— Ты, кажется, — говорил мне Николай Николаевич, — думаешь что можешь переменить взгляды этого человека. Достаточно одного слова его начальства, чтобы он пристрелил тебя и нас всех с превеликим удовольствием.
 Филипп Львович Задорожный
Филипп Львович Задорожный
Это я и сам прекрасно понимал, но, должен был сознаться, что в грубости манер нашего тюремщика, в его фанатической вере в революцию было что-то притягательное. Во всяком случае, я предпочитал эту грубую прямоту двуличию комиссара Временного Правительства. Каждый вечер, пред тем, как идти ко сну, я полушутя задавал Задорожному один и тот же вопрос: «Ну что, пристрелите вы нас сегодня ночью?» Его обычное обещание не принимать никаких решительных мер до получения телеграммы с севера меня до известной степени успокаивало. По-видимому, моя доверчивость ему нравилась, и он спрашивал у меня часто совета в самых секретных делах. <…> Однажды он явился ко мне по очень деликатному вопросу:
— Послушайте, — неловко начал он, — товарищи в Севастополе боятся, что контрреволюционные генералы пошлют за вами подводную лодку.
— Что за глупости, Задорожный. Вы же служили во флоте и отлично понимаете, что подводная лодка здесь пристать не может. Обратите внимание на скалистый берет, на приливы и глубину бухты. Подводная лодка могла бы пристать в Ялте или в Севастополе, но не в Ай-Тодоре.
— Я им обо всем этом говорил, но что они понимают в подводных лодках! Они посылают сегодня сюда два прожектора, но вся беда заключается в том, что никто из здешних товарищей не умет с ними обращаться. Не поможете ли вы нам? (великий князь Александр Михайлович был пионером и, можно сказать, создателем русской авиации. И вообще прекрасно разбирался в технике – прим. СДГ.)
Я с готовностью согласился помогать им в борьбе с мифической подводной лодкой, которая должна была нас спасти. Моя семья терялась в догадках по поводу нашего мирного сотрудничества с Задорожным. Когда прожекторы были установлены, мы пригласили всех полюбоваться их действием. Моя жена решила, что Задорожный, вероятно, потребует, чтобы я помог нашему караулу зарядить винтовки пред нашим расстрелом. <…>
Около полуночи Задорожный постучал в дверь нашей спальной и вызвал меня. Он говорил грубым шепотом:
— Мы в затруднительном положении. Давайте, обсудим, что нам делать. <…> Только что звонил по телефону Севастополь и велел готовиться к нападению. Они высылают к нам пять грузовиков с солдатами, но Ялта находится отсюда, ближе, чем Севастополь. Пулеметов я не боюсь, но что мы будем делать, если ялтинцы пришлют артиллерию. Лучше не ложитесь и будьте ко всему готовы. Если нам придется туго, вы сможете, по крайней мере, хоть заряжать винтовки.
 Автор мемуаров великий князь Александр Михайлович с женой Ксенией на «русском балу» 1903 г.
Автор мемуаров великий князь Александр Михайлович с женой Ксенией на «русском балу» 1903 г.
Я не мог сдержать улыбки. Моя жена оказалась права.
— Я понимаю, что все это выглядит довольно странно, — добавил Задорожный, — но я хотел бы, чтобы вы уцелели до утра. Если это удастся, вы будете спасены.
— Что вы хотите этим сказать? Разве правительство решило нас освободить?
— Не задавайте мне вопросов. Будьте готовы.
Он быстро удалился, оставив меня совершенно озадаченным. Я сел на веранде. Была теплая апрельская ночь, и наш сад был полон запаха цветущей сирени. Я сознавал, что обстоятельства складываются против нас. Стены Дюльбера, конечно, не могли выдержать артиллерийской бомбардировки. В лучшем случае севастопольцы смогли бы добраться до Дюльбера в четыре часа утра, между тем, как самый тихоходный грузовик проехал бы расстояние между Ялтой и Дюльбером немногим дольше, чем в один час. Моя жена появилась в дверях и спросила, в чем дело.
— Ничего особенного. Задорожный просил меня присмотреть только за прожекторами. Они опять испортились.
Я вскочил, так как мне показалось, что вдали послышался шум автомобиля.
— Скажи мне правду, — просила меня моя жена, — я вижу, что ты взволнован. В чем дело. Ты получил известия о Никки? Что-нибудь нехорошее?
Я ей передал в точности мой разговор с Задорожным. Она с облегчением вздохнула. Она не верила, что сегодня ночью с нами случится что-нибудь недоброе. <…> Между тем, время шло. Часы в столовой пробили час. Задорожный прошел мимо веранды и сказал мне, что теперь их можно было ожидать с минуты на минуту.
 Обыск у Романовых в Дюльбере. 1918 г.
Обыск у Романовых в Дюльбере. 1918 г.
— Жаль, — заметила моя жена, — что они захватили Библию мамы. Я бы наугад открыла ее, как это мы делали в детстве, и прочла, что готовит нам судьба. (эту Библию Мария Фёдоровна, будучи ещё принцессой Дагмар, привезла из Дании, библия сопровождала её всю жизнь, но при обыске была изъята в качестве контрреволюционного материала. Мария Фёдоровна умоляла взять взамен её драгоценности, но делавшие обыск отвергли это предложение, сказав: «Мы не воры». Десять лет спустя вдовствующая императрица, живя в Копенгагене, получила посылку, в которой обнаружилась та самая Библия. Один датский дипломат случайно увидел её у московского букиниста, купил и прислал Марии Фёдоровне. Это было незадолго до ее смерти, в 1928 году – прим. СДГ.)
Я направился в библиотеку и принес карманное издание Священного Писания, которого летом не заметили делавшие у нас обыск товарищи. Она открыла ее, а я зажег спичку. Это был 28 стих 2 главы книги Откровения Иоанна Богослова: «И дам ему звезду утреннюю».
— Вот видишь, — сказала жена, — все будет благополучно!
Её вера передалась и мне. Я сел и заснул в кресле.<…> В шесть часов утра зазвонил телефон. Я услыхал громкий голос Задорожного, который взволнованно говорил: «Да, да… Я сделаю, как вы прикажете…» Он вышел снова на веранду. Впервые за эти пять месяцев я видел, что он растерялся.
— Ваше Императорское Высочество, — сказал он, опустив глаза, — немецкий генерал прибудет сюда через час.
— Немецкий генерал? Вы с ума сошли, Задорожный. Что случилось?
— Пока ещё ничего, — медленно ответил он, — но я боюсь, что если вы не примете меня под свою защиту, то что-то случится со мною.
— Как могу я вас защищать? Я вами арестован.
— Вы свободны. Два часа тому назад немцы заняли Ялту.
<…> Ровно в семь часов в Дюльбер прибыл немецкий генерал. Я никогда не забуду его изумления, когда я попросил его оставить весь отряд революционных матросов, во главе с Задорожным, для охраны Дюльбара и Ай-Тодора. Он, вероятно, решил, что я сошел с ума. «Но ведь это же совершенно невозможно!» — воскликнул он по-немецки, по-видимому, возмущенный этой нелогичностью. Неужели я не сознавал, что Император Вильгельм II и мой племянник Кронпринц никогда не простят ему его разрешения оставить на свободе и около родственников Его Величества этих ужасных убийц? Я должен был дать ему слово, что я специально напишу об этом его Шефам и беру всецело на свою ответственность эту безумную идею. И даже после этого генерал продолжал бормотать что-то об этих русских фантастах!»
Таким образом Романовы, уже совершенно свободные, ещё некоторое время продолжали жить в Дюльбере, благодаря за своё спасение Господа Бога, давшего им надежду на «утреннюю звезду», крепкие зубчатые стены и матроса Задоржного. И только сожалея о том, что другие великие князья — Николай и Георгий Михайловичи (родные братья Сандро), а еще Дмитрий Константинович и Павел Александрович их не послушали и не приехали к ним в Крым из Петрограда, и под арест угодили именно там (уже после отъезда спасшихся в Крыму Романовых тех четырёх великих князей расстреляют в Петропавловской крепости, о чём я, впрочем, уже рассказывала в )…
 Дюльбер, деталь. Фото Василия Финогенова
Дюльбер, деталь. Фото Василия Финогенова
В Крыму же жизнь мало-помалу наладилась. Феликс Юсупов вспоминал: «Старики вздыхали с облегчением, но все ж и с опаской, а молодежь просто радовалась жизни. Радость хотелось выплеснуть. Что ни день, то теннис, экскурсии, пикники. <…> В мае в Ялту прибыл адъютант императора Вильгельма. Привез от кайзера предложение: русский престол любому Романову в обмен на подпись его на брест-литовском договоре. Вся императорская семья отвергла сделку с негодованием. Кайзеров посланник просил у тестя моего переговорить со мной. Великий князь отказал, сказав, что в семье его не было, нет и не будет предателей. <…>
Накануне одной из <наших> увеселительных прогулок разнесся слух, что царь и семья его убиты. Но столько тогда рассказывалось всяких небылиц, что мы перестали им верить. Не поверили и этому, и веселье наше не отменили. Несколько дней спустя слух и в самом деле опровергли. Напечатали даже письмо офицера, якобы спасшего государево семейство. Увы! Вскоре стала известна правда. Но и тут императрица Мария Фёдоровна верить отказывалась. До последних своих дней она надеялась увидеть сына. <…>
Когда весной 1919 года красные подошли к Крыму, поняли мы, что это конец. Утром 7 апреля командующий британскими военно-морскими силами в Севастополе явился в Аракс к императрице Марии Фёдоровне. Король Георг V, в силу сложившихся обстоятельств сочтя отъезд государыни необходимым и безотлагательным, предоставил в её распоряжение броненосец «Мальборо». Командующий настаивал на отплытии ее и семьи ее вечером того же дня. Сначала императрица решительно отказалась. С трудом убедили её, что отъезд необходим. <…> Императрица поручила мне отнести великому князю Николаю Николаевичу письмо, в котором сообщала, что уезжает, и предлагала ему и семье ехать с нею также. <…>
На другой день отплыли и мы вместе с моими родителями. Тотчас вслед за нами из ялтинского порта отчалил корабль с нашими офицерами, ехавшими присоединиться к белой армии. «Мальборо» еще не поднял якорь, и, стоя на носу броненосца, императрица смотрела, как уплывали они. Из глаз у нее текли слезы. А молодежь, плывшая на верную смерть, приветствовала свою государыню, замечая за ней высокий силуэт великого князя Николая, их бывшего главнокомандующего».
 Вдовствующая Императрица Мария Феодоровна на борту британского линкора «Мальборо» 11 апреля 1919 г. Слева от неё великий Князь Николай Николаевич. Феликс Юсупов смотрит в бинокль на удаляющийся крымский берег.
Вдовствующая Императрица Мария Феодоровна на борту британского линкора «Мальборо» 11 апреля 1919 г. Слева от неё великий Князь Николай Николаевич. Феликс Юсупов смотрит в бинокль на удаляющийся крымский берег.
Сюжет второй. О Василии Хлудове, невольно оплатившем строительство крымского чуда, и о жульническом обществе «Сталь»
 Дюльбер. Мушараби (деталь). Фото Василия Финогенова
Дюльбер. Мушараби (деталь). Фото Василия Финогенова
Теперь вернёмся на пару десятилетий назад, в момент строительства Дюльбера. Великий князь Пётр Николаевич больше всего на свете интересовался архитектурой – хотя по должности ему положено было интересоваться совсем другими вещами, он ведь Романов, а значит на военной службе числился от рождения. Но здоровье у Петра Николаевича было слабое, туберкулёз гнал его из Петербурга в тёплые края, так что он всё больше путешествовал по странам Магриба и Ближнего Востока. Привёз оттуда уйму зарисовок и сам спроектировал себе дворец, построить который, впрочем, пригласил архитектора Краснова (того самого, который позже будет строить Ливадийский царский дворец. Но именно Дюльбер – его первый заказ от представителя царствующей династии).
Известно, что Краснов при строительстве Дюльбера проявил чудеса изобретательности, обходясь самыми дешевыми материалами. Резные деревянные наличники и мушараби (эркер-фонарь в средневековой архитектуре – прим. СДГ), придавшие дворцу причудливую нарядность – по сути обычная столярная работа. Лепные украшения, выглядящие как дорогой восточный фаянс, на самом деле выполнены из гипса и вазелина и покрыты спиртовым лаком. Словом, голь на выдумки хитра – ведь великий князь Пётр испытывал серьёзные финансовые затруднения в момент столь масштабного строительства. Впрочем, у него самого и на это денег бы не хватило. Крымское чудо было оплачено из кармана московских купцов, и прежде всего несчастного Василия Алексеевича , которого лестное знакомство с великим князем совершенно разорило. В начале я обещала, что это будет история о том, почему рухнула империя. Конечно, нельзя сказать, что именно из-за финансовых манипуляций великого князя Петра Николаевича, но всё же кое-что это объясняет…
 Резные двери Дюльбера. Фото Василия Финогенова
Резные двери Дюльбера. Фото Василия Финогенова
В середине 90-х годов на Московской бирже вдруг заговорили о громадных и неисчислимых залежах железной руды, обнаруженных близ Ладожского озера в Олонецком уезде, на земле, арендованной у крестьян великим князем Петром Николаевичем. Для добычи этой руды в Петербурге было образованно акционерное общество «Сталь», учредитель — Санкт-Петербургский Международный банк, связанный с иностранцами. Москвичи заволновались: снова столичные банкиры пронесут «пирог» мимо них, отдадут выгодное дело в руки иностранцев, как это у них обычно и бывало (вспомним хотя бы ). По слухам выходило, что европейские капиталисты хлопочут о том, чтобы скупить все паи Общества, но великий князь хочет, что пайщиками в этом сверхвыгодном деле были русские. Василий Алексеевич Хлудов — нелюбимый сын московского миллионщика Алексея Ивановича Хлудова (отец недолюбливал Василия за вечную неудачливость в делах) схватился за этот шанс и стал охотится за паями, приглашая в дело и главу Московского Торгового банка Николая Найдёнова. Тот попросил разобраться и оценить прибыльность предприятия своего зятя — Николая Варенцова. Тот-то и раскрыл афёру.
Обратимся к мемуарам Варенцова, где подробно описывается всё это дело: «Хлудов уверял, что как только в Обществе «Сталь» всё будет пущено полным ходом, то цена паям поднимется чрезвычайно, но тогда, конечно, купить паи не представится возможным. Василий Алексеевич возводил свои глаза к небу, твердя только одно: «Поймите, близ столицы руда на земле, даже её рыть не придется, а качество её не хуже руды с горы Благодать на Урале. Если я получу только один пай, буду счастливейшим человеком!» В это время глаза его сверкали и вид у него был ненормального человека от жадности и боязни, что ему не достанется даже одного пая».
В том разговоре участвовал и представитель Санкт-Петербургского Международного банка Волынский, который «с усмешечкой отвечал: «Да кто же вам даст купить? Один пай может сделать человека богатым! Неужели думаете, что банк не сумеет устроить так, чтобы все паи «Стали» ушли за границу?» Всё это вызвало у осторожного Варенцова некоторые подозрения. Нужно было ехать на Тулмозеро, к отрогам и разбираться самому. В спутники себе он пригласил профессора-геолога Мешаева, знавшего толк в горном деле. Поехали втайне ото всех, в особенности от Волынского. И вот, они, наконец, на месте:
 Николай Александрович Варенцов, в мемуарах описавший авантюру с обществом «Сталь»
Николай Александрович Варенцов, в мемуарах описавший авантюру с обществом «Сталь»
«Руда выходила из земли шестью или семью отрогами и довольно далеко тянулась вдаль. Остановили экипажи и бросились бегом осматривать чудеса природы, сулящие громадные богатства всем счастливчикам, роком предназначенным быть пайщиками Общества «Сталь». Зрелище было поражающее - не нужно быть геологом, чтобы оценить громадную стоимость этих залежей руды. Снять только выступы над землей, то и тогда денег не оберешься». Правда, это всё только на первый взгляд. Стоило посмотреть на руду повнимательнее, и картина изменилась: «Мешаев попросил штейгера приступить к пробе первого отрога. Тот начал сбивать руду инструментом, но труды его оказались недействительными: руды не оказалось! «Что же это такое?» - спросил Мешаев. Общее молчание». Варенцов стал выяснять и вскоре докопался до сути. У великого князя Петра Николаевича на берегу Ладожского озера было большое лесное имение, возле которого его управляющий обнаружил отроги железной руды. Эта земля принадлежала местным крестьянам, и они прежде сдавали её в аренду студенту Горной академии Нобелю за 100 рублей в год, не особенно вникая в то, что тот на арендованной земле делает. Проработал Нобель несколько лет, аккуратно уплачивая условленную плату, а потом крестьяне запросили с него больше — 300 рублей в год. Нобель отказался и бросил дело. Управляющий доложил Петру Николаевичу, и тот загорелся добывать руду. «Великий князь недолго думая отправился в С.-Петербургский Международшй банк к председателю правления Ротштейну, — продолжает Варенцов. — Ротштейн, осчастливленный столь высоким посетителем, с большим вниманием выслушал его и дал полное согласие на финансирование этого дела». С крестьянами, не торгуясь, заключили договор об аренде земли на 99 лет, с уплатой не 100 и не 300, а 1000 рублей в год. Банк согласился финансировать предприятие с условием, что Пётр Николаевич даст письменную гарантию: на этой земле имеются миллиардные залежи руды и ее качество соответствует представленным образцам. «Великому князю, согласно условиям, был выплачен миллион рублей наличными деньгами, и Банк приступил к организации Общества «Сталь» для эксплуатации руды в Тулмозере с паевым капиталом в 10 миллионов рублей, — пишет Варенцов. — Дело Общества «Сталь» обставлялось с широким размахом, денег не жалели: были приглашены инженеры-строители, горные штейгера; воздвигались дома для служащих, рабочих; строили шоссе; проектировались две доменные печи, и начали одну строить - словом, работа кипела! Приглашенный для руководства разработкой руды инженер Лунгрен прежде всего приступил к обследованию отрогов руды, о которых говорили выше. Какое же было удивление, когда после первого испытания отрога оказалось: толщина первого пласта была в один вершок, а за ним шел пласт доломита в один аршин ширины, за пластом доломита опять был вершок руды и так далее… Доломит есть порода минерала, видом, блеском, цветом весьма похожая на руду, но весьма крепкой формации; для удаления его нужно употреблять пироксилин, порох для этого слаб, вследствие чего отделение доломита обходится весьма дорого и стоимость полученной руды не оправдывается. Испробованы были все отроги, и везде оказался результат тот же. Приступили к рытью шахты, надеясь, что в земле руды будет больше, а пласт доломита будет уже, но и там оказалось то же, что и на поверхности земли. Обратили внимание на болотную руду, находящуюся в довольно большом количестве на дне озер, но эта руда оказалась плохого качества и не заслуживающей большого внимания.
Банк, получивший все эти сведения, сообщил их великому князю и поставил ему на вид, что один из пунктов договора не выполнен, а именно: гарантии миллиарда пудов руды не имеется, а имеющаяся руда, чтобы добыть ее, требует затраты большей, чем стоимость самой руды. От великого князя последовало на это заявление следующее: компетентность горного инженера, поставленного Банком, для него не обязательна, а он берется доказать правоту подписанного им условия авторитетностью крупного европейского ученого, доклад которого он доставит к известному сроку в правление Банка.
Великим князем было послано в Вену лицо к известному профессору-геологу (фамилию забыл) с предложением ему приехать в Тулмозеро и составить доклад с доказательствами о нахождении в этой местности в недрах земли миллиарда пудов руды. Знаменитость-геолог в Тулмозеро приехал: прожил три месяца с представлением ему большого комфорта. Профессором был составлен доклад обширных размеров с указанием в нем, что руды на этой площади имеется значительно больше, чем определил великий князь в договоре с Банком, и он представил его великому князю. За этот труд ему было уплачено великим князем 30 тысяч рублей деньгами и все расходы по поездке и содержанию».
 Деньги на строительства крымского дворца Дюльбер добывались за тысячи километров, в Карелии. Фото Ирины Стрельниковой
Деньги на строительства крымского дворца Дюльбер добывались за тысячи километров, в Карелии. Фото Ирины Стрельниковой
Судиться с великим князем Банк не стал — во-первых, с Романовым поди-ка посудись, во-вторых, экспертиз не оберёшься. При желании можно скупать венских экспертов хоть пачками — а, значит, с доказательствами в суде будут проблемы. Но и терять миллиона рублей, выданный великому князю авансом, никто не собирался. Ведь можно было переложить убыток на плечи доверчивых москвичей, которых так просто было ослепить участием в деле титулованной особы. Тем более, что великий князь из благодарности, что от него отстали, отнюдь не возражал против использования его имени для распродажи паёв заведомо убыточного предприятия по баснословной цене… «Было больно и обидно за добродушие этих рыхлых москвичей, чрезвычайно хотелось их удержать и предостеречь от входа в это мошенническое дело», — пишет Варенцов.
 С.Петербургский Международный банк, офис на Невском
С.Петербургский Международный банк, офис на Невском
Дальше события развивались феерически. Прознав о том, что Варенцов поехал на разведку в Тулмозеро, туда примчались представители Санкт-Петербургского банка и, как заправские фокусники, пускали пыль в глаза. Основной упор делался на щедрость и размах: авось московский гость, увидев, сколько денег тратится на предприятие, решит, что дело солидное, и не станет вникать в качество руды. Варенцов описывает роскошный обед, данный в честь него, дорогого гостя: «Трудно представить, что мы находились в глуши, куда всю провизию доставляли из С.-Петербурга, но как будто мы обедали в лучшем ресторане С.-Петербурга - «Кюба» или «Донон». Вина были дорогие и в большом избытке, шампанского сколько угодно и самых лучших марок. Обедали на лоне природы, с дивным ландшафтом, на отлично сервированных столах; кухня, специально построенная из досок, расположена была в недалеком расстоянии; предполагаю, что ею пользовались и ранее для специальных обедов-пикников. <…> На этом обеде я встретился со своим бывшим товарищем по учению, инженером Меерсоном, в его ведении были стройки. Студентами были друзьями; он бывал у меня дома, и разошлись с ним по следующему поводу: Меерсон хлопотал в студенческой кассе о ежемесячном пособии, объясняя, что отец его бедный и нуждающийся сам в помощи. Пособие он получил, но в каком размере, я теперь не помню, что-нибудь вроде 20–30 рублей в месяц, хотя в кассе для вспомоществования студентов денег было мало и выдавались только тем действительно нуждающимся, которым приходилось очень туго. Кто-то из студентов случайно узнал, что отец Меерсона, где-то на юге живущий, имеет довольно хорошие средства и высылает сыну ежемесячно довольно значительное пособие. Об этом узналось только после многих месяцев забирания Меерсоном в кассе денег. Этот его поступок послужил нашему расхождению. Как оказалось, Меерсон был приятелем Волынского и Фейнберга (представителей С.Петербургского банка, «охмурявших» Варенцова — прим. СДГ) . Я и решил в своих записках указать этот случай, чтобы яснее выявить удельный вес нравственности этой милой компании. <…> Волынский, Меерсон и все другие их единомышленники были убеждены, что мы уже попали в их карманы: сидели за обедом с довольными лицами, говорили с большим апломбом о невозможности приобрести хотя бы малую толику паев: «Да кто же вам продаст? Ведь это дело - золотое дно!» - и т. д. <…> Я упустил в своих записках рассказать, что еще при знакомстве с Волынским в «Славянском базаре» пришлось от него услыхать, что в Тулмозере кроме руды имеются ясно выраженные признаки нахождения серебра. Разработка его оставлена на будущее время: «От железной руды не будем знать, куда девать деньги!» - сказал он. То же самое слышали мы неоднократно со стороны других лиц в Тулмозере, и на пикниках произносили тосты за это будущее серебро, придавая ему большое значение в будущем. Особенно старался петь дифирамбы на обеде Меерсон о будущности разработки серебра». <…>
Но, конечно, и с серебром оказалось всё то же самое. Профессор Мешаев спустился в расщелину и вскоре вернулся. «Возмущенный профессор показывает нам сбитую штейгером подделку признаков серебра - бирюзового цвета, приделанную сравнительно грубо к скале в глубине расщелины. Когда штейгер подал эту подделку профессору, он, тщательно осмотрев ее, возмущенный проделкой штейгера, закричал: «Как вам не стыдно так обманывать?!» Поездка к этой расщелине была длинна и утомительна: часы показывали, что в действительности было не менее двадцати верст от дома, а обратный путь мы сделали скоро. Из чего заключили, что нас возили обходными путями с целью утомить, надеясь, что мы откажемся от осмотра признаков серебра. <…> Для нас дело стало ясным. Торопливо начали собираться уезжать отсюда, чтобы попасть к поезду в Сердоболь. <…> Явился Волынский с предложением поехать из Сердоболя не железной дорогой, а на пароходе, принадлежащем Валаамскому монастырю, находившемся в их полном распоряжении. Он сказал: «Вы будете доставлены в монастырь как раз к обедне, после чего можете осмотреть все его достопримечательности, а вечером с отходящим ежедневно пароходом в Шлиссельбург и приедете в Петербург раньше, чем по железной дороге».
Предложение нам понравилось: кроме того, что поездка интересна, но поедем одни, без Волынского и всей «милой» компании. При прощании я передал свои четыре обратных билета до Петербурга Волынскому, как нам уже не требующиеся. Довольно примирительно простились <…>. Подъехали к пристани Ладожского озера, где красовался маленький, беленький и красивый с виду пароходик, предназначенный для отвоза нас на остров Валаам».
И только когда они уже отплыли, выяснилось, зачем их отправили пароходом, а не железной дорогой: «Монах-капитан рассказал, что им получено распоряжение доставить нас в монастырь, ухаживать за нами, хорошо кормить и поить, возить по острову, показывая все его достопримечательности, чтобы мы не могли соскучиться в эти три дня. «Как в три дня! - вскричал Обухов. - Мы завтра должны быть в Петербурге! У нас спешное дело». - «Нет, - отвечал монах, - вам придется прожить у нас трое суточек: пароход, могущий доставить вас в Петербург, сегодня уже ушел из Валаама и вернется через трое суток, не раньше». <…> Дело неприятное: в три дня Волынский с компанией могут Бог знает что натворить в Москве! На острове Валаам не имеется телеграфа и переговорить с Москвой не придётся никак. Очень вероятно, что Торговый банк под влиянием слов Волынского, Фейнберга, из боязни ухода паев в другие руки, сочтет невозможным ожидать нашего возвращения в Москву и возьмет паи Общества «Сталь», предполагая, что если бы там было что-либо не так хорошо, то я уведомил бы по телеграфу Найдёнова. Молчание мое и отъезд на Валаам сочли бы как знак полного благополучия в деле. Всё это мне рисовалось возможным и допустимым: да, мы попались!
Позвали капитана в каюту, искренне все ему рассказали, в каких условиях очутились мы; причем попугали его, что, приехавши в Петербург, мы заявим прокурору о всём с нами проделанном этими бандитами с помощью валаамских отцов, предполагая, что для них, монахов, будет неприятно наше заявление. Монах-капитан нас понял и, сочувствуя, дал совет: «Мы должны приехать на Валаам в четыре часа утра, если машина будет пущена полным ходом. Вы идите к настоятелю и расскажите ему всё, что говорили мне, я думаю, он даст вам благословение на этом пароходе отправиться обратно, и вы успеете своевременно прибыть в Сердоболь к отходу поезда».
 Пароход на Валаам
Пароход на Валаам
Благословение обошлось в 25 рублей, но это уже было неважно. Главное, они всё-таки успели на поезд. На перроне встретили Волынского и прочую «компанию», страшно испугавшуюся при виде Варенцова. «Я обратился к Волынскому: «Отдайте мои обратные железнодорожные билеты». Он поспешно, с испуганными глазами, видимо, сильно волнуясь, вытащил билеты из кармана и отдал мне, сильно толкнув кучера, чтобы скорее уезжал, как видно, опасаясь возможности с моей стороны испробовать свою силу на его спине. Было противно на такого труса смотреть и притом и смешно. Нужно сознаться, мне и хотелось огреть его как следует. На вокзале они куда-то исчезли, а также и в поезде их не видали, нужно думать, сидели в купе запершись и ни разу не вышли. <…>
В три часа дня на другой день были в Москве. Быстро умылся, переоделся и поспешил в Торговый банк, чтобы застать Н. А. Найдёнова. На мое горе, извозчиков на их обыкновенной стоянке не оказалось, быстро пошел до первого извозчика; услышал, что меня обгоняет кто-то; я обернулся и вижу едущего В. А. Хлудова на своей неказистой лошадке, погруженного в думу, с устремленными глазами вниз, можно было думать, что он поглощен каким-то событием и весь отдался ему. Я кричу: «Василий Алексеевич! Василий Алексеевич! Остановитесь!» Наконец он вышел из нирваны, остановился, я сел с ним. Рассказал вкратце о вс`м виденном и пережитом нами и в заключение сказал: «Общество «Сталь» состоит из людей формации червонных валетов (то есть изощренных мошенников. Червонными валетами называла себя банда ловких аферистов, прославившаяся продажей заезжему англичанину генерал-губернаторского дворца на Тверской (хозяин Москвы князь Долгоруков считал, что подписывает приветственный адрес, а сам подписал купчую, написанную по-английски) – прим. СДГ) , от них нужно бежать!»
 Василий Алексеевич Хлудов
Василий Алексеевич Хлудов
Василий Алексеевич схватил меня за руку и взволнованным голосом сказал: «Что вы, что вы! Разве так можно говорить! Там участвуют великий князь Пётр Николаевич, Ротштейн — друг Витте, и еще много солидных людей, а вы позволяете себе так говорить!» Я умолял его послушать меня и быть осторожным с ними: «Если моё обследование вас не удовлетворяет, то организуйте комиссию с лицами опытными, учёными и честными, не жалейте на это денег, не будьте так доверчивы!» <…> Потом оказалось, что в то время, когда я ездил в Тулмозеро, его, бедного раба, окрутили оставшийся в Москве Фейнберг со своими компаньонами по спиритическим сеансам, где духи предсказали Василию Алексеевичу большой успех. Василий Алексеевич попал на большую сумму, с ним также доктор Богуш, внесший все свои сбережения; В. И. Якунчиков, Н.П. и К. П. Бахрушины, С. В. Перлов и еще многие, фамилии которых забыл.
Я не скрывал ни от кого результатов своей поездки в Тулмозеро и всем интересующимся Обществом «Сталь» сообщил все свои наблюдения и утверждал, что всё дело построено на мошенничестве. И не сомневаюсь, что мои рассказы воздействовали как холодный душ на некоторые горячие головы, взвинченные разными небылицами об ожидаемых громадных дивидендах, что-то вроде 30 %, которые и были выданы в первый отчетный год Общества «Сталь» из денег, как говорили, полученных за паи от В. А. Хлудова. <…>
Вокруг меня возгорелась борьба - я ясно это чувствовал. Начали ходить разные слухи, стремящиеся меня компрометировать: говорили, что все сведения, распускаемые мною об Обществе «Сталь», делаются с целью завладеть этим делом для Торгового банка, а самому стать во главе его».
Репутация Варенцова была восстановлена только тогда, когда акционерное общество «Сталь» всё-таки лопнуло. Больше всех пострадал Василий Хлудов. Причём не только из-за купленных паёв, но и из-за случая, уже не опосредованно, а напрямую связанного с великим князем Петром Николаевичем. «<Вот ещё> кое-что, что мне не было известно, хотя я отчасти об этом догадывался, — пишет Варенцов. — Великий князь Пётр Николаевич выразил свое желание через Ротштейна познакомиться с В. А. Хлудовым как с человеком большого ума и деловитости и притом добавил, что они оба большие пайщики в общем деле, а потому у них должны быть и общие интересы.
В. А. Хлудов отправился к великому князю, был принят крайне любезно и с приглашением к себе на обед. Великий князь за обедом вел оживлённый разговор о блестящем будущем Общества «Сталь» и об ожидаемых громадных доходах и между прочим коснулся, что он в своём имении в Крыму строит большой дворец, но у него в данный момент по неожиданной для него причине задержалась сумма поступлением, а потому, чтобы не прекращать стройки, он принуждён временно на короткий срок заложить свои паи Общества «Сталь», то не может ли Василий Алексеевич выручить его и дать ему заимообразно под паи эту сумму, которую он в короткое время ему выплатит с благодарностью и с хорошими процентами.
Василий Алексеевич, восхищенный любезным приемом, особенно приглашением на великокняжеский обед, и глубоко уверенный в будущности Общества «Сталь», изъявил согласие выдать под паи просимую князем сумму. После того как раскрылось положение Общества «Сталь», В. А. Хлудов пожелал получить обратно свои деньги от великого князя, но получил ответ через уполномоченного великого князя: денег в данный момент у князя не имеется, но в свою очередь великий князь ничего не будет иметь против, если Василий Алексеевич оставит паи в свою пользу вместо выданных им денег, на что Василий Алексеевич имеет все законные основания».
Интересно, что в многочисленных биографиях великого князя Петра Николаевича ни о чём подобном обычно не пишется. Эстет, умница, жертва слепой и безжалостной истории. Что ж, и это ведь тоже – правда. Просто увиденная с другой стороны…
Ирина Стрельникова, #совсемдругойгород экскурсии по Москве
 Фото Василия Финогенова
Фото Василия Финогенова
 Фото Василия Финогенова
Фото Василия Финогенова
 Фото Василия Финогенова
Фото Василия Финогенова
 Фото Василия Финогенова
Фото Василия Финогенова
 Теперь в Дюльбере санаторий. Фото Василия Финогенова
Ливадийский дворец в жизни российского императора Николая II и его семьи
Теперь в Дюльбере санаторий. Фото Василия Финогенова
Ливадийский дворец в жизни российского императора Николая II и его семьи
21 сентября 1911 года газета "Русская Ривьера" поместила подробный отчет о торжественной встрече в Ялте императора Николая II с семьей, прибывших на отдых в свое южнобережное имение.
"Прелестная тихая погода. Разукрашенная гирляндами зелени, коврами, разноцветными материалами Набережная Ялты буквально сверкает в ослепительных лучах полуденного южного солнца. У городского сада сооружаются чуть ли не целые трибуны для симфонического оркестра и местных артистов, решивших встретить Их Императорские Величества звуками народного гимна.
Начиная с 12 часов тротуары Набережной начинают наполняться по-летнему нарядной публикой. Еще час — и вся правая сторона Набережной сплошь занята ялтинскими обывателями и курортными приезжими.

Взоры направлены на императорскую яхту "Штандарт", стоящую у мола. Императорский штандарт спущен, в ближайшей церкви раздается колокольный звон — для всех стало ясно: Его Императорское Величество Государь Император с Августейшим семейством изволили покинуть яхту и отбыть с мола.
Наконец, послышались отдаленные раскаты "ура!", постепенно, по мере их приближения, они усиливаются, подхваченные тясячами восторженных голосов. Показались первые экипажи царского кортежа. Впереди следовал губернатор граф П. М. Апраксин, за ним в экипаже стоял начальник ялтинской полиции М. М. Гвоздевич, далее, также стоя, ехал, не спуская глаз с обожаемого монарха, начальник ялтинского гарнизона И. А. Думбадзе.
Еще секунды, и появляется открытая, запряженная парой великолепных лошадей, коляска Их Величеств. Его Императорское Величество Государь Император изволил сидеть в коляске, имея с правой стороны Ея Императорское Величество Государыню Императрицу, а впереди Его Императорское Высочество Государя Наследника — цесаревича Алексея Николаевича и Великую княжну Ольгу Николаевну.

Лошади шли мелкой рысью, вследствие чего все, кто только был на Набережной, имели возможность видеть Их Императорские Величества. Государь Император и Государыня Императрица изволили отвечать на приветствия публики.
Вслед за экипажем Их Величеств следовал экипаж, в коем находились Августейшие дочери, Великие княжны Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна с фрейлиной госпожой Тютчевой. Далее в отдельных экипажах следовали: Министр Императорского Двора барон Фредерике, Дворцовый Комендант, генерал-адъютант Дедюлин, флаг-капитан, генерал-адъютант Нилов, генерал-майор Свиты князь Орлов, флигель-адъютант Дрентельн и другие лица...

Тем временем на площади перед зданием нового дворца по случаю приезда Их Императорских Величеств был выстроен почетный караул от 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка. При знамени, при хоре музыки на правом фланге находился генерал-адъютант Зарубаев и другие военные лица.
После приветствия Его Императорское Величество проходят почетный караул, а Государыня Императрица подходит к Начальнику Главного управления Уделов князю В. С. Кочубею, действительному статскому советнику В. Н. Качалову(управляющему имением - прим.автора), полковнику Янову(коменданту дворца - прим.автора), строителю нового дворца архитектору Н. П. Краснову, а также служащим и подрядчикам по строительству дворца.
Качалов подносит Е. В. хлеб-соль на фарфоровом блюде с четырьмя изображениями дворцов различных эпох. При этом Качалов сказал: "Ваше Императорское Величество! Верные слуги Вашего Величества служащие и рабочие имения "Ливадия" встречают Вас, Всемилостивейший Государь, нашего Державного хозяина с благоговейной радостью и усердно просят Ваше Императорское Величество при поступлении в новый Ливадийский дворец принять от нас по исконно русскому обычаю хлеб-соль". Ея Императорскому Величеству Императрице и Великим княжнам были поднесены прелестные букеты цветов.
Удостоив некоторых лиц своим разговором Их Величества Государь Император, Государыня Императрица с Августейшим семейством изволили последовать в Ливадийскую церковь, где духовник Их Величеств протоиерей Кедринский отслужил молебен, после которого Их Императорские Величества отбыли в новый дворец".

Дворцовая церковь
По фотографиям, которые направлялись Качаловым в Главное Управление Уделов вместе с еженедельными отчетами о ходе строительства, Николай Александрович и Александра Федоровна могли, конечно, представить, как будет выглядеть их новый дом. Однако действительность превзошла ожидаемое. Вот как писал Николай II матери о своих первых впечатлениях:
"Мы не находим слов, чтобы выразить нашу радость и удовольствие иметь такой дом, выстроенный именно так, как хотели. Архитектор Краснов удивительный молодец - подумай, в 16 месяцев он построил дворец, большой Свитский дом и новую кухню. Кроме того, он прелестно устроил и украсил сад со всех сторон новых построек вместе с нашим отличным садовником, так что эта часть Ливадии очень выиграла. Виды отовсюду такие красивые, особенно на Ялту и на море. В помещениях столько света, а ты помнишь, как было темно в старом доме... Что редко бывает - Краснов сумел угодить всем: дамы, свита и даже femmes de chambres(горничные) и люди довольны своими помещениями. Все приезжающие, после осмотра дома, в один голос хвалят то, что видели, и, конечно, самого виновника - архитектора".

Вид на итальянский дворик
Свою личную благодарность, осмотрев служебные постройки в имении, выразил Николай II и архитектору Г. П. Гущину. Он обратился к Глебу Петровичу со словами:
"Мне все говорят, что у меня в Ливадии - гараж лучший в Европе. Мне это лестно слышать и приятно сознавать. Осмотрев отличную конюшню, красивую электрическую станцию, милый театр и превосходный гараж, считаю нужным выразить Вам за них свою благодарность. Благодарю Вас за труды, положенные за последние годы в моем имении".
После чего Гущину был преподнесен ценный памятный подарок - золотой портсигар, украшенный бриллиантами и сапфирами.
Впрочем, ни один человек и ни одна фирма, участвовавшие в строительстве, не были забыты. Представления к награждению орденами, медалями, ценными подарками, денежными премиями и золотыми и серебряными памятными жетонами проходили по спискам, составленным управляющим имением Качаловым и главным строителем Красновым. 4 фирмы удостоились престижного звания "поставщик Двора Его Императорского Величества" за высочайшее качество изготовленных для Ливадии оборудования и мебели. Например, мебель от фабриканта Ф. Ф. Тарасова была столь изысканна, что даже встал вопрос о показе стульев и кресла для парадной столовой дворца на всероссийской выставке мебели в Санкт-Петербурге, а прекрасные художественные изделия и приборы из бронзы московской фабрики братьев Е., А. и Ф. Вишневских украсили дворец.
Была отмечена наградами и работа многих ялтинских подрядчиков: Е. С. Пасхалиди - за каменные работы, Г. П. и Н. П. Лолановых - за земляные работы, устройство фундаментов и цокольной части зданий, А. Э. Менье - специалиста по изготовлению железобетонных конструкций, А. Ф. Канащенкова и С. С. Швецова - за плотничьи работы, X. И. Калфа - за изготовление колонн, украшающих Итальянский дворик и фасады дворца, и многих других.

Дворик в итальянском стиле
Новый Ливадийский дворец оценила и художественная общественность России того времени. Академик Ф. Г. Беренштам писал в журнале "Зодчий":
"Дворец, спроектирован в итальянском Ренессансе XV—XVI веков. Основными мотивами композиции служили памятники Флоренции, но при этом приходилось считаться с требованиями загородного дворца и современного комфорта. Надо было, сохраняя строгую красоту дворцовой архитектуры, дать уют и интимность дачи, соединить величавое впечатление дворца с мягким покоем загородного дома, расположить здание так, чтобы некоторые части его были особенно открыты солнцу и воздуху, а крыши использовались для террас, бельведеров и вышек".

Внутри итальянского дворика
Сам архитектор дал очень краткую характеристику Большого Ливадийского дворца:
"Проектирован и выполнен в стиле итальянского Ренессанса из штучного инкерманского камня, со всеми орнаментальными частями, высеченными из того же камня. Здание дворца имеет 116 отдельных помещений, один большой внутренний двор и три малых световых двора. Парадные официальные комнаты дворца отделаны и меблированы в том же стиле".

Внутренний дворик дворца в арабском (мавританском стиле)
Через несколько дней в Ялте в актовом зале Мужской гимназии открылся первый благотворительный базар, организованный по поручению Александры Федоровны фрейлиной княжной Е. Н. Оболенской.
Подготовка к нему началась еще в Петербурге, причем постарались привезти для продажи вещи оригинальные, привлекательные, в основном по стоимости, доступной большей части ялтинской публики. В Париже были заказаны для этой цели духи, одеколоны, туалетное мыло, из Стокгольма привезли брелоки, броши, портсигары, бонбоньерки, Петербургский Императорский стеклянный и фарфоровый завод направил вазы и кружки из художественного стекла. А канцелярия Ее Величества дала разрешение подготовить для продажи свыше 10 тыс. открыток с фотографиями императора и членов августейшего семейства.
Роль продавцов взяли на себя дамы из многих знатных и состоятельных семей, но, конечно, внимание всех было приковано, прежде всего, к центру зала, где императрица с дочерьми предлагала публике собственноручные изделия. "Вокруг непрерывной волной переливалось море человеческих голов. В его переливах смешалось все: мундиры придворных и гражданских чинов, сюртуки и дамские туалеты публики... Все, кому выпало счастье быть на этом базаре, были полны желания купить какую-нибудь вещь и получить ее непосредственно из рук царицы". Общая выручка от базара составила сумму свыше 40 тыс. рублей, и ее сразу передали в различные благотворительные общества и комитеты Ялты.
А по завершении базара 27 сентября здесь же, в здании Мужской гимназии, состоялся бал, на котором присутствовали великие княжны. Для них он был первым в жизни, так как последний придворный бал в Зимнем дворце состоялся в 1903 г.

Белый парадный зал дворца (современный интерьер)
Несмотря на такой калейдоскоп радостных событий и связанных с ними праздников, начало отдыха в Ливадии было омрачено воспоминаниями о недавнем убийстве в Киеве премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Николай II относился к нему с большим уважением и, несомненно, осознавал всю значимость этой потери для России. Несколько раз и в Александро-Невском соборе, и в дворцовой церкви в присутствии всех членов императорской семьи проходили службы в память этого выдающегося политического деятеля.
Столыпин был в Ливадии только один раз — в 1909 г., когда по личному настоянию Николая он приехал в царское имение отдохнуть после затяжной болезни. Здесь, вдали от столицы, император и премьер-министр подолгу обсуждали насущные проблемы государственной жизни.
Согласно заведенному протоколу с ежедневными докладами монарху являлся министр Императорского двора барон В. Б. Фредерикс и, в случае необходимости, вызывались министры В. Н. Коковцев, В. А. Сухомлинов, С. Ю. Витте, И. К. Григорович, С. Д. Сазонов и многие другие.

Парадная ожидательная
Традиционными стали встречи в Крыму с Эмиром Бухарским Сеид-Абдул-Ахад-ханом. Авторитетного в Средней Азии властителя связывала с императором скорее не вассальная зависимость от России, а чувство взаимной личной симпатии. Эмир приобрел в Ялте большие земельные участки, построил два прекрасных дворца в восточном стиле.
Ялта была многим обязана ему: когда город испытывал недостаток средств при строительстве общественных зданий, Эмир делал щедрые пожертвования. Его не только избрали почетным гражданином города и назвали в его честь улицу в Заречной части, но и в состав Черноморского российского флота вошел легкий крейсер "Эмир Бухарский".
Сюда, в Крым, приходили бесчисленные телеграммы и документы, требующие безотлагательного решения. В дневнике Николая II, страницы которого посвящены пребыванию в Ливадии, постоянные записи: "занимался делами", "читал бумаги", "принял Фредерикса" и т. п.

Вестибюль
Но и отдыху, конечно же, уделялось достаточно времени. Недаром одна из царских дочерей писала: "В Крыму была жизнь, в Петербурге служба".
Пожалуй, вся семья, кроме Александры Федоровны, увлекалась ездой по крымским дорогам на автомобилях. На "моторе" можно было уезжать далеко, быстро добираясь до всех своих имений, в том числе и до "Кучук-Ламбата", приобретенного в 1906 г. у наследников французского маршала Мюрата. Стали более частыми поездки на Бешуйскую дачу — к этому времени туда, к охотничьему домику, проложили так называемое "Романовское шоссе", проходившее через самое высокое плато Крымских гор — Бабуган-яйлу.
Езду на автомобилях сменяли прогулки на комфортабельной яхте "Штандарт", принадлежавшей императорской семье. Судно было построено в Дании в 1893 г., его длина превышала 112 м, ширина 15, 4 м, а крейсерская скорость 15, 4 узла. Сначала "Штандарт" плавал только в районе Балтийского моря, в Финском заливе, в шхерах которого Николай II с семьей часто отдыхал от петербургских забот. Но начиная с 1902 г., яхта прибывала в Севастополь, где принимала на борт приехавших в Крым Романовых и доставляла их в Ялту.

Великие княжны с наставником наследника Пьером Жильяром на балконе дворца
Много времени уделялось спорту, особенно модному тогда лаун-теннису(теннис на траве), для игры в который Николай еще в 1902 г. заказал специально оборудованную площадку. В теннис играли все, кроме Александры Федоровны.
Как только фирма "Кодак" организовала выпуск фотокамер для любительского фотографирования, увлечение им охватило весь мир. С удовольствием занимались фотографией и Романовы. У каждого из них обязательно были альбомы, куда вечерами, в кругу семьи, наклеивались новые фотографии, сделанные собственноручно, либо понравившиеся снимки знаменитых мастеров.
Но особого успеха в этом искусстве достигла императрица Мария Федоровна. Сохранилось любопытное свидетельство, что она была приглашена редактором популярного тогда в Европе мюнхенского журнала "Фотографический мир" профессором Шнерлем для участия в издании альбома "Фотографическое искусство Высочайших Особ". Доход от продажи альбома поступил на образование Фонда помощи нуждающимся талантливым молодым фотографам без различия национальности.

Бильярдная (современный интерьер)
Для Николая II фирма изготовила специальную фотокамеру, позволившую ему делать панорамные снимки. Многие из них сейчас представляют большую историческую ценность. Надо сказать, что Николай Александрович проявлял большой интерес вообще к техническим новинкам и, в частности, к новым изобретениям в фотографии. В 1909 г. в Ливадии известный русский изобретатель цветного фотографирования С. М. Прокудин-Горский демонстрировал перед собравшейся царской семьей большую серию цветных фотоснимков. Перед восхищенными августейшими зрителями предстали великолепные виды Сибири, Средней Азии, картины быта народностей этих дальних окраин России.
И еще одно интереснейшее событие российской культурной жизни произошло тогда в Ливадии: в здании "Музыкальной казармы", переоборудованной в кинозал, в присутствии царской семьи, всего обслуживающего персонала, солдат и офицеров охраны, впервые демонстрировался полнометражный фильм "Оборона Севастополя". Его создал крупный русский предприниматель и кинодеятель А. А. Ханжонков, впоследствии основавший в Ялте киностудию.

опочивальня их величеств (современный интерьер)
В 1912 г. Николай II с семьей прибыл в Ливадию ранней весной на Пасху. Как всегда, жизнь здесь, в любимом всеми южном имении, была насыщена яркими впечатлениями.
Ялтинская пресса того времени широко освещала проведение на Южном берегу Крыма благотворительного праздника "Белого цветка" и участия в нем императрицы, великих княжен, цесаревича, фрейлины А. А. Вырубовой.
Праздник с таким романтическим названием впервые был организован в Швеции, но сразу же завоевал популярность в России и уже в 1911г. был устроен во многих городах страны. Особенно успешно и красочно он прошел в Ялте, которую тогда образно величали "всероссийским госпиталем" для лечения больных туберкулезом.
Представим себе теплый апрельский день в Ялте: сверкающее море, бездонное голубое небо, цветущие глицинии, фиалки, сирень. Но в этот день главным цветком стала стилизованная маленькая ромашка, гирляндами которой увиты высокие шесты в руках молодых женщин и детей, одетых во все белое. Венчают шесты зеленые пышные банты и маленькие щитки с крестом и надписью "На борьбу с чахоткою". Через плечи несущих эти эффектные цветочные гирлянды переброшены на зеленых лентах кружки для сбора денег. С радостной улыбкой нарядные женщины протягивают прохожим вынутые из гирлянд цветочки, смело входят в рабочие мастерские, дома, магазины, кофейни, заходят в татарские деревни — и везде встречают ответную веселую улыбку, доброжелательность и понимание. Плата за ромашки добровольная и посильная для каждого — от копеек до десятков рублей.
Все охотно покупают у продавщиц белые цветочки, обступают декорированные гирляндами автомобили, и к концу дня почти все жители города оказываются украшенными этим скромным символом человеческой доброты и отзывчивости.
Выручка от продажи "белых цветков" в Ялте и близлежащих дачных поселках, а также от устроенных гуляний в городском саду и сборов в царском имении "Ливадия" составила свыше 12 тыс. рублей, что для того времени считалось значительной суммой. Эти сборы дали возможность поддержать деятельность только что организованного Ялтинского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. Основатели отдела — известные крымские врачи, общественные деятели, ялтинское земство — поставили перед собой благородную цель: максимально помочь десяткам тысяч ищущих исцеления туберкулезных больных, стекающихся на Южный берег Крыма со всех концов Отечества, и прежде всего — неимущим людям.

Завершение "Дня белого цветка" в Ялте совпало с днем тезоименитства императрицы Александры Федоровны 23 апреля. В этот день в Итальянском дворике дворца ялтинские гимназисты и учащиеся Ливадийского училища преподнесли Александре Федоровне сделанные собственными руками скромные подарки. А затем в честь императрицы на площади перед дворцом состоялся парад воинских частей, стоящих на охране имения. Его принимали самолично Николай II и цесаревич. Вечером рейд Ялты осветился огнями праздничного фейерверка, устроенного кораблями "Штандарт", "Двенадцать Апостолов" и "Алмаз". "Русская Ривьера" на следующий день сообщила, что Ялта выглядела сказочной.

Гостиная императрицы
В этот же приезд решили осмотреть имение князя Феликса Феликсовича Юсупова графа Сумарокова-Эльстон в Коккозе(с. Соколиное Бахчисарайского района), где недавно Н. П. Краснов по заказу князя построил оригинальный "охотничий дом", в архитектуре которого использовал татарские мотивы.
С семьей Юсуповых последнего императора связывали родственные узы — его племянница, красавица княгиня Ирина Александровна, в 1914 г. вышла замуж за Ф. Ф. Юсупова-младшего.
По пути в имение сделали привал на Ай-Петри, доставивший всем участникам путешествия большое удовольствие.
В окрестностях Коккоза была устроена охота, а затем снова на автомобилях направились осматривать отреставрированный Ханский дворец в Бахчисарае.
Надо отдать должное Николаю II — он всячески поддерживал и лично курировал все инициативы, направленные на исследование прошлого Крыма и сохранение памятников его истории и культуры. В Государственном крымском архиве хранится большое количество документов, показывающих, с каким энтузиазмом и тщательностью занимались искусствоведы, архитекторы и общественные деятели России изучением и сбором лучших образцов местного народного творчества, как стремились дать новую жизнь национальным традициям. На поддержание их деятельности выделялись по тем временам довольно большие средства.
Председателем "Высочайше утвержденной научно-художественной комиссии по составлению проектов реставрации бывшего Ханского дворца в Бахчисарае" Николай II назначил великого князя Петра Николаевича, известного ориенталиста. Великий князь, а также академик Н. П. Кондаков, выдающийся русский византиевед, и архитектор Н. П. Краснов играли основную роль в составлении проекта реставрации и руководстве всеми работами.

малая семейная столовая
А затем последовало путешествие всей семьей на яхте "Штандарт" к человеку, еще при жизни ставшему в России легендой — князю Л. С. Голицыну, владельцу крупного имения "Новый Свет" близ Судака.
Представитель старинного княжеского рода, получивший блестящее образование, свободно владевший многими европейскими языками, Лев Сергеевич страстно увлекся виноделием и в создании "тонкого", "большого" русского вина поднял ремесло винодела до степени высокого искусства.
В перешедшем к нему по наследству родовом имении в Крыму князь создал образцовое винодельческое хозяйство, а затем, возглавив Управление виноделия в Удельном ведомстве, свои феноменальные знания и энергию направил на улучшение состояния дел во всех виноградарско-винодельческих хозяйствах Главного управления Уделов, преследуя главную цель — сделать отечественные вина конкурентоспособными лучшим зарубежным образцам.
Из дневника Николая II о посещении им "Нового Света" в 1912 г.:
"В 111/2 стали на якорь в первой бухте "Нового Света". После завтрака съехали всем обществом на берег и пошли береговою дорожкою к знаменитым погребам Голицына. Смотрели два грота, которые освещались бенгальскими огнями. Пробовали много вин и даже вторично позавтракали в одном из подвалов. Л. С. Голицын водил и угощал нас, как он умеет это делать, показал нам дом для гостей с великолепным старым хрусталем, серебром и чудными вещами. Простились с Голицыным и его семьей и в 5 1/2 вернулись на яхту. Алике тоже съезжала на берег, но только в последней бухте... "

малая семейная столовая
В мае 1913 г. в центре России — Москве, Ярославле, Костроме и Нижнем Новгороде — торжественно отмечалось 300-летие династии Романовых. Осенью вся семья вновь прибыла в Ялту и, хотя официальная часть празднеств закончилась, в Крыму прошла как бы вторая, малая, волна юбилейных торжеств. Августейшей чете приходилось принимать в Ливадии многочисленные делегации, участвовать в устроенных в их честь праздниках. О некоторых приемах и праздниках стоит упомянуть особо, так как, судя по записям в дневнике Николая Александровича, они оставили у него весьма приятное впечатление.
Так, из далекой Монголии прибыло в Ливадию посольство, вручившее российскому императору орден Чингис-хана.
Приветствовать августейшую семью пришла вся Черноморская эскадра, встав на якорь напротив Ливадии. Вечером корабли осветились столь красивой илюминацией, что Николай Александрович с дочерьми специально ездил на "моторе" поближе полюбоваться этим прекрасным зрелищем.
Гардемарины эскадры удостоились в Ливадии высокой чести быть произведенными в мичманы в присутствии царской семьи, после чего возле дворца Николай II и наследник сфотографировались с ними на память.
А 5 ноября в Ливадийском дворце собрался весь многонациональный Крым в лице предводителей дворянства и председателей уездных управ Таврической губернии. Тепло встреченные главой государства, они были приглашены на торжественный завтрак в Белый зал, а затем сфотографировались у парадного входа нового дворца вместе с Николаем.
В Ялте был устроен такой же, как и в 1911 г., большой благотворительный базар, которым руководила сама императрица, после чего и в городе, и в самом имении начались выступления известных артистов, музыкальные концерты, просмотры новых кинофильмов.

классная комната великих княжон
Однако в дневниках членов семьи, в воспоминаниях близких очевидцев постоянно находим прямые и косвенные указания на то, что императрица, в отличие от дочерей, вела в Ливадии крайне замкнутый образ жизни, подолгу никого не принимая и довольно редко появляясь на торжествах или приемах. Тогда мало кто знал, что это было вызвано тяжелым состоянием здоровья наследника: долгое время на уровне государственной тайны скрывалось, что Алексей был болен гемофилией.
Неизлечимая болезнь, по наследству передающаяся через женщин детям мужского пола Гессенского рода, постоянно держала мальчика под угрозой смерти — ничтожный ушиб или порез — что для ребенка с нормальным кровообращением было бы пустяком, для него превращалось в тяжкие гематомы, угрожающие перейти в заражение крови, либо неукротимые кровотечения.
Наставник наследника, Пьер Жильяр, близко наблюдавший жизнь царской семьи в течение нескольких лет, описывает трагедию двойной жизни императорской четы — улыбки и невозмутимость на людях при постоянном страхе за жизнь дорогого сына.

рисунки княжон в классной комнате
"Как передать пытку этой матери, беспомощно присутствующей при мучениях своего ребенка в течение долгих часов смертельной тревоги, этой матери, которая знала, что она причина этих страданий, что она передала ему ужасную болезнь, против которой бессильна человеческая наука!"
В 1913 г. в Ливадии Алексей долго и трудно выздоравливал от очередного нечаянного ушиба, окруженный лучшими врачами и любовью и вниманием всей семьи. Тяжкие физические страдания, сопровождавшие болезнь, ослабляли мальчика, делали его нервозным и капризным, хотя от природы это был умный, способный ребенок с доброй душой.
А вот, как Жильяр описывает внешность и поведение наследника в 1913 г.:
"Алексею Николаевичу было тогда 91/2 лет. Он был довольно крупен для своего возраста, имел тонкий, продолговатый овал лица с нежными чертами, чудные светло-каштановые волосы с бронзовыми переливами, большие сине-серые глаза, напоминавшие глаза его матери. Он вполне наслаждался жизнью, когда мог, как резвый и жизнерадостный мальчик. Вкусы его были очень скромны. Он совсем не кичился тем, что был Наследником".
Жильяр же, кстати, отмечал, как нежно любил цесаревич своих сестер и боготворил родителей. Это была очень дружная семья, основанная на любви и заботе друг о друге. Многие биографы Николая Александровича и Александры Федоровны утверждали, что царская чета именно в радости теплых семейных отношений находила отдушину в сжимающемся вокруг них кольце грозных событий. Вечерами или в плохую погоду в Ливадии часто собирались вместе, читали А. Аверченко, Л. Толстого, разыгрывали сцены из Ж. Б. Мольера, Н. Гоголя.

верхний кабинет императора
Весной 1914 г. приехали за неделю до Пасхи, провели ставший уже традицией "День белого цветка", а 5 июня под руководством великой княжны Татьяны Николаевны и фрейлины А. А. Вырубовой благотворительный базар на молу порта. Через неделю, 12 июня, выехали из Ливадии, не подозревая, что навсегда простились с ней.
1 августа началась первая мировая война. Вырученные же от благотворительных базаров средства пошли на строительство Дома для выздоравливающих и переутомленных и Санатория имени императрицы Александры Федоровны для чинов флота. Оба здания начали возводиться в имении "Массандра" на земельных участках, пожертвованных для этой цели царской семьей. Ранее, в 1902 г. там же, в Массандре, был построен Санаторий в память Александра III. Это были первоклассные госпитали для раненых солдат и офицеров русской армии.
С начала войны в Ливадии, тоже на средства Александры Федоровны, была построена новая хурургическая больница, а в имении "Кучук-Ламбат" по проекту архитектора Ю. Ф. Стравинского, брата знаменитого композитора, — еще один Санаторий для раненых и утомленных.

опочивальня императорской четы
Примеру императорской семьи последовали многие владельцы богатых дач и доходных домов на Южном берегу Крыма — в Феодосии, Севастополе, Евпатории, Саках, — передав их под временные госпитали. Оборудование и медикаменты для них приобретались на средства от добровольных пожертвований.
В мае 1916 г. вся царская семья приехала в Николаев, где присутствовала на церемонии спуска на воду линкора "Императрица Мария". Затем краткое пребывание в Севастополе на смотре Черноморского флота и далее по новой железнодорожной ветке — в Евпаторию на открытие Военного госпиталя имени императрицы Александры Федоровны. Остаток дня в Евпатории был посвящен отдыху у моря на даче, которую снимала А. Вырубова.
На фотографиях, запечатлевших этот день, светлые, радостные лица — на какое-то мгновение Крым заставил забыть все заботы, отогнать тягостные мысли о неудачах на фронте, о растущем напряжении в стране. На какой-то миг жизнь опять стала мирной и спокойной...
В новый Ливадийский дворец царская семья приезжала четыре раза — осенью 1911 и 1913 и весной 1912 и 1914 годов 12 июня 1914 года они выехали из Ливадии, не подозревая, что навсегда простились с ней.
После отречения Николай II просил Временное правительство дать ему возможность поселиться с семьей в Ливадии, где он вел бы жизнь частного лица. Керенский разрешения не дал...

фото в классной комнате
Еще несколько фото от Ежички




Прекрасный дворец в стиле Итальянского Ренессанса, который соперничает с Воронцовским за звание самой шикарной резиденции Крыма. Место, где на протяжении полувека отдыхали Романовы. Дворец, где однажды побывал сам Марк Твен, тогда еще будущий знаменитый писатель. А в 1945 году именно здесь состоялась Ялтинская конференция. Конечно, вы уже догадались, что речь идет о Ливадийском дворце. О любимой крымской резиденции российских императоров расскажет Екатерина Астафьева.
Итальянское палаццо на берегу Черного моря
Местечко Ливадия было обустроено еще до того, как его облюбовали Романовы. Императорская семья выкупила имение у графа Льва Потоцкого, от которого им достались по наследству господский дом, оранжереи и парк. Конечно, небольшое здание оказалось тесным для дружной императорской семьи. Для работы над новой летней резиденцией Романовых пригласили архитектора Монигетти, который уже был известен благодаря нескольким особнякам в Санкт-Петербурге. Он перестроил дом Потоцкого в Большой дворец, возвел Малый дворец для наследника. Монигетти также работал над знаменитой Крестовоздвиженской церковью, где в 1894 году приняла православную веру невеста Николая II Александра Федоровна.
Ливадийский дворец построен в стиле Итальянского Ренессанса
Малый Ливадийский дворец был уничтожен во время Второй мировой войны. Так дворец наследника выглядел до разрушения
Но на этом метаморфозы Ливадии не закончились. Николай II, став императором, заметил, что деревянные конструкции старого дворца покрылись грибком из-за сырости — это пагубно сказывалось на здоровье монаршей семьи. Тогда он пригласил архитектора Николая Краснова, который за 17 месяцев выстроил прекрасный дворец из белого камня. В то время были в моде «исторические» стили, именно поэтому Белый дворец внешне напоминает палаццо Итальянского Возрождения.

Белый дворец в Ливадии
Марк Твен на экскурсии у Александра II
Больше полувека Ливадия оставалась любимой летней резиденцией императорской семьи. С ней связано огромное количество интересных и важных событий из жизни Романовых. Например, император Александр II принимал «на ялтинской даче» американских туристов и даже провел для них небольшую экскурсию. В 1867 году американский пароход «Квакер Сити» совершал кругосветное путешествие. На борту в качестве корреспондента был и Марк Твен, который тогда еще и не помышлял о мировой литературной славе. О государе российском Сэмюэл Клеменс писал в своей заметке: «На императоре была фуражка, сюртук, панталоны — все из какой-то гладкой материи, бумажной или полотняной, без всяких драгоценностей, без орденов и регалий. Трудно представить себе костюм, менее бросающийся в глаза».
В 1867 Марк Твен посетил Ялту в качестве репортера

Семья Романовых в Ливадии
В 1881 Ливадия перешла во владение Александра III, а спустя 10 лет стала местом празднования серебряной свадьбы императорской четы. В 1894 именно здесь скончался государь-миротворец, вскоре после чего в Ливадии принял присягу Российскому престолу Николай II.
Иллюминация, благотворительность и морские прогулки
Приезд императорской семьи каждый раз превращался в Ялте в настоящий праздник. Благодаря Романовым город получил статус «летней столицы», куда стекались все сливки российского общества. Монарших особ встречали воинские караулы и оркестры. В честь именин Романовых у подножия горы Могаби устраивались веселые соревнования. По вечерам в Ливадийском парке можно было полюбоваться красочной иллюминацией. Но праздники были не просто возможностью повеселиться. Весной в Ялте проводили праздник «Белого цветка», где продавали белые бумажные ромашки. Вырученные средства шли в фонд помощи больным туберкулезом.
Весной в Ялте проводился благотворительный праздник «Белого цветка»

Императорские дети на празднике «Белого цветка»
Романовы приятно проводили время в Ялте. Утро начиналось с чашки кофе, затем всей семьей гуляли по парку и завтракали. После трапезы отправлялись гулять верхом или на автомобилях, по вечерам вместе читали книги, играли в карты, смотрели кино. У императоров, конечно, не могло быть настоящего отпуска, поэтому время от времени государь удалялся в кабинет для чтения деловых бумаг и приема министров. Время от времени Романовы отправлялись в морскую прогулку на собственной яхте.
Судьбы мира вершились в Ялте
В 1945 Ливадийский дворец стал местом действия одного из самых важных событий в истории XX века. Именно в бывшей резиденции российских императоров на Ялтинской конференции собрались делегации из СССР, США и Великобритании. С 4 по 11 февраля во дворце проводились официальные заседания, на которых решалась судьба послевоенного миропорядка. На время конференции в Ливадийском дворце расположилась делегация Франклина Рузвельта. Уинстону Черчиллю Воронцовский дворец в Алупке, а Иосифу Сталину — Юсуповский дворец в Кареизе.
В 1945 в Ливадийском дворце состоялась Ялтинская конференция

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции в Ливадии, 1945
Сейчас в Ливадии располагается музей, который открыл двери для посетителей в 1974 году. На первом этаже Белого дворца находится выставка, посвященная Ялтинской конференции. На втором этаже выставлены материалы, посвященные жизни императорской семьи в Ливадийской резиденции.