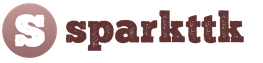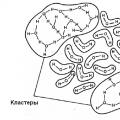«Чудачливый» Кузмин (1875-1936), о котором с неприязненной иронией упоминает Бенуа, - один из крупнейших поэтов XX в. "Воспитанному в строго религиозном старообрядческом духе мальчику было нелегко понять и принять свою необычную сексуальность. Но у него не было выбора.
Он рос одиноким мальчиком, часто болел, любил играть в куклы и близкие ему сверстники «все были подруги, не товарищи». Первые его осознанные эротические переживания связаны с сексуальными играми, в которые его вовлек старший брат. В гимназии Кузмин учился плохо, зато к товарищам «чувствовал род обожанья и, наконец, форменно влюбился в гимназиста 7 класса Валентина Зайцева». За первой связью последовали другие (его ближайшим школьным другом, разделявшим его наклонности, был будущий советский наркоминдел Г.В.Чичерин). Кузмин стал подводить глаза и брови, одноклассники над ним смеялись. Однажды он пытался покончить с собой, выпив лавровишневых капель, но испугался, позвал мать, его откачали, после чего он признался во всем матери, и та приняла его исповедь. В 1893 г. более или менее случайные связи с одноклассниками сменила серьезная связь с офицером старше Кузмина на 4 года, о которой многие знали. Этот офицер, некий князь Жорж, даже возил Кузмина в Египет. Его неожиданная смерть подвигла Кузмина в сторону мистики и религии, что нс мешало новым увлечениям молодыми мужчинами и мальчиками-подростками. Будучи в Риме, Кузмин взял на содержание лифт-боя Луиджино, потом летом на даче влюбился в мальчика Алешу Бехли; когда их переписку обнаружил отец мальчика, дело едва не дошло до суда.
Все юноши, в которых влюблялся Кузмин (Павел Маслов, Всеволод Князев, Сергей Судейкин, Лев Раков и др.), были бисексуальными и рано или поздно начинали романы с женщинами, заставляя Кузмина мучиться и ревновать. В цикле «Остановка», посвященном Князеву, есть потрясающие стихи о любви втроем («Я знаю, ты любишь другую»):
Mой милый, молю, на мгновенье
Представь, будто я — она.
Кузмин видел своих возлюбленных талантами, всячески помогал им и продвигал в печать, при этом воображаемый образ часто заслонял реальность, молодой человек становился как бы тенью самого поэта.
Самой большой и длительной любовью Кузмина (с 1913 г.) был поэт Иосиф Юркунас (1895—1938), которому Кузмин придумал псевдоним Юркун. В начале их романа Кузмин и Юркун часто позировали в кругу знакомых как Верлен и Рембо. Кузмин искренне восхищался творчеством Юркуна и буквально вылепил его литературный образ, но при этом невольно подгонял его под себя, затрудняя самореализацию молодого человека как писателя. С годами (а они прожили вместе до самой смерти поэта) их взаимоотношения стали напоминать отношения отца и сына: «Конечно, я люблю его теперь гораздо, несравненно больше и по-другому...», «Нежный, умный, талантливый мой сынок...»
Кузмин был своим человеком в доме Вячеслава Иванова, который, несмотря на глубокую любовь к жене, писательнице Лидии Зиновьевой-Аннибал, был не чужд и гомоэротических увлечений. В его сборнике «Cor ardens» (1911) напечатан исполненный мистической страсти цикл «Эрос», навеянный безответной любовью к молодому поэту Сергею Городецкому:
За тобой хожу и ворожу я,
От тебя таясь и убегая;
Неотвратно на тебя гляжу я, —
Опускаю взоры, настигая...
В петербургский кружок «Друзей Гафиза» кроме Кузмина входили Вячеслав Иванов с женой, Бакст, Константин Сомов, Сергей Городецкий, Вальтер Нувель, юный племянник Кузмина Сергей Ауслендер. Все члены кружка имели античные или арабские имена. В стихотворении «Друзьям Гафиза» Кузмин хорошо выразил связывавшее их чувство сопричастности:
Нас семеро, нас пятеро, нас четверо, нас трое,
Пока ты не один, Гафиз еще живет.
И если есть любовь, в одной улыбке двое.
Другой уж у дверей, другой уже идет.
Для некоторых членов кружка однополая любовь была не органической потребностью, а всего лишь модным интеллектуальным увлечением, игрой, на которые падка художественная богема. С другими (например, с Сомовым и Нувелем) Кузмина связывали не только дружеские, но и любовные отношения. О своих новых романах и юных любовниках они говорили совершенно открыто, иногда ревнуя друг к другу. В одной из дневниковых записей Кузмин рассказывает, как однажды после кутежа в загородном ресторане он с Сомовым и двумя молодыми людьми, включая тогдашнего любовника Кузмина Павлика, «поехали все вчетвером на извозчике под капотом и все целовались, будто в палатке Гафиза. Сомов даже сам целовал Павлика, говорил, что им нужно ближе познакомиться и он будет давать ему косметические советы». Посещали популярного поэта и юные гимназисты, у которых были собственные гомоэротические кружки.
С именем Кузмина связано появление в России высокой гомоэротической поэзии. Для Кузмина любовь к мужчине совершенно естественна. Иногда пол адресата виден лишь в обращении или интонации:
Когда тебя я в первый раз встретил,
не помнит бедная память:
утром ли то было, днем ли,
вечером, или позднею ночью.
Только помню бледноватые щеки,
серые глаза под темными бровями
и синий ворот у смуглой шеи,
и кажется мне, что я видел это в раннем детстве,
хотя и старше тебя я многим.
В других стихотворениях любовь становится предметом рефлексии:
Бывают мгновенья,
когда не требуешь последних ласк,
а радостно сидеть,
обнявшись крепко,
крепко прижавшись друг к другу.
И тогда все равно,
что будет,
что исполнится,
что не удастся.
Сердце
(не дрянное, прямое, родное мужское сердце)
близко бьется,
так успокоительно,
так надежно,
как тиканье часов в темноте,
и говорит:
«все хорошо,
все спокойно,
все стоит на своем месте».
А в игривом стихотворении «Али» по-восточному откровенно воспеваются запретные прелести юношеского тела:
Разлился соловей вдали,
Порхают золотые птички!
Ложись спиною вверх, Али,
Отбросив женские привычки!
С точки зрения интеграции гомоэротики в высокую культуру большое значение имела автобиографическая повесть Кузмина «Крылья» (1906). Ее герою, 18-летнему мальчику из крестьянской среды Ване Смурову, трудно понять природу своего интеллектуального и эмоционального влечения к образованному полуангличанину Штрупу. Обнаруженная им сексуальная связь Штрупа с лакеем Федором вызвала у Вани болезненный шок, где отвращение переплетается с ревностью. Штруп объяснил юноше, что тело дано человеку не только для размножения, что оно прекрасно само по себе, что «есть связки, мускулы в человеческом теле, которых невозможно без трепета видеть», что однополую любовь понимали и ценили древние греки. В конце повести Ваня принимает свою судьбу и едет со Штрупом за границу.
«— Еще одно усилие, и у вас вырастут крылья, я их уже вижу.
— Может быть, только это очень тяжело, когда они растут, — молвил Ваня, усмехаясь».
«Крылья» вызвали бурную полемику. В большинстве газет они были расценены как проповедь гомосексуальности. Один фельетон был озаглавлен «В алькове г. Кузмина», другой — «Отмежевывайтесь от пошляков». Известный журналист и критик Л. Василевский (Авель) писал: «Конечно, публике нет дела до того, любит ли г. Кузмин мальчиков из бани или нет, но автор так сладострастно смакует содомское действие, что «смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно»... Все эти «вакханты, пророки грядущего», проще говоря, нуждаются в Крафт-Эбинге и холодных душах, и роль критики сводится к этому: проповедников половых извращений вспрыскивать холодной водой сарказма». Социал-демократические критики нашли повесть «отвратительной» и отражающей деградацию высшего общества. Андрея Белого смутила ее тема, а некоторые сцены повести он счел «тошнотворными». Гиппиус признала тему правомерной, но изложенной слишком тенденциозно и с «патологическим заголением». Напротив, застенчивый и не любивший разговоров о сексе Александр Блок записал в дневнике: «...Читал кузминские «Крылья»— чудесные». В печатной рецензии Блок писал, что хотя в повести есть «места, в которых автор отдал дань грубому варварству и за которые с восторгом ухватились блюстители журнальной нравственности», это «варварство» «совершенно тонет в прозрачной и хрустальной влаге искусства». «Имя Кузмина, окруженное теперь какой-то грубой, варварски-плоской молвой, для нас— очаровательное имя».По поводу первого опубликованного сборника стихов Кузмина "Сети" Блок писал ему: "Бог мой, что Вы за поэт, что за книгу Вы написали. Я влюблен в каждую ее строчку..." Николай Гумилев, который вместесо своей женой Анной Ахматовой и Осипом Мандельштамом был омнователем и лидером акмеистского движения, напечатал обозрение о втором сборнике гомосексуальных любовных стихов Кузмина "Осенние озера" (1912 г.) в наиболее престижном художественном журнале того времени "Аполлон". Заключение гумилевского обзора отражает типично просвещенный взгляд ведущих гетеросексуальных писателей того периода на "голубую" литературу и ее писателей: "Михаил Кузмин занимает одно из самых значительных мест в первых рядах современных поэтов. Мало кто из прочих поэтов дсотигает такой поразительной гармоничности целого в сочетании со свободой вариаций его составляющих. Более того, являясь выразителем взглядов и эмоций большой группы людей, объединенных общей культурой и по праву вознесенных на гребне жизни, он - почвенный поэт".
В повести Кузмина и его рассказах «Картонный домик» и «Любовь этого лета» молодые люди находили правдивое описание не только собственных чувств, но и быта. Для них многое было узнаваемым. Один из юных друзей поэта гимназист Покровский рассказывал ему «о людях вроде Штрупа, что у него есть человека 4 таких знакомых, что, как случается, долгое время они ведут, развивают юношей бескорыстно, борются, думают обойтись так, как-нибудь, стыдятся даже после 5-го, 6-го романа признаться; как он слышал в банях на 5-й линии почти такие же разговоры, как у меня, что на юге, в Одессе, Севастополе смотрят на это очень просто и даже гимназисты просто ходят на бульвар искать встреч, зная, что кроме удовольствия могут получить папиросы, билет в театр, карманные деньги».
Число потрясающих публикаций, которые появились в печати о Гиппиус, Клюеве, Кузмине, Есенине, Ивневе и Зиновьевой-Аннибал, не оставляет никаких сомнений, что в начале этого века в России было подлинное раскрепощение гомосексуалистов в литературе и других видах искусства.
Среди поэтов начала века можно назвать и Рюрика Ивнева - любителя садомазохизма, а точнее, пиромазохизма, с его настойчивой темой быть опаленным или сожженным возлюбленным мужчиной.
Среди других важных литературных явлений периода между 1905 и 1910 гг. было появление романа "33 урода" и сборника рассказов "Трагический зверинец" Лидии Зиновьевой-Аннибал. Эти две книги сделали для русских лесбиянок то же, что ""Крылья" Кузмина для мужчин-гомосексуалистов: они показали читающей публике, что лесбийская любовь может быть серьезной, глубокой и трогательной.
Примерно в 1910 г. в России появилась группа так называемых крестьянских поэтов, причем это название отвечало не только их происхождению, но и тому, что судьбы крестьян и их образ жизни в 20 веке были главной темой их творчества. Бесспорным лидером в этой группе был Николай Клюев (1884-1937). Родившийся в крестьянской семье, принадлежавший к секте хлыстов, Клюев научился (и научил своих последователей) соединять народный деревенский фольклор с современным стилем русских поэтов-симаолистов. Две книги его стихов, изданные в 1912 г., "Сосен перезвон" и "Братские песни", стали сенсацией и сделали Клюева знаменитостью. Нескрываемый гомосексуализм Клюева не помешал большинству поэтов и критиков, а также многим грамотным крестьянам считать его самым выдающимся представителем всего российского крестьянства в литературе.
Клюев имел многочисленные любовные связи с образованноыми из крестьян, но величайшей любовью в его жизни был Сергей Есенин (1895-1925). В течение примерно двух лет (1915-1917) Клюев и Есенин жили вместе как любовники и в стихах рассказывали о своей любви. Хотя Есенин был прижды женат и его женами были три знаменитые женщины (кроме великой балерины Дункан это были известная актриса и внучка Льва Толстого), самую выразительную любовную лирику Есенину удавалось создать только в тех случаях, когда она была адресована другому мужчине. Со стороны Клюева эта дружба определенно была гомоэротической. Друг Есенина Владимир Чернавский писал, что Клюев «совсем подчинил нашего Сергуньку», «поясок ему завязывает, волосы гладит, следит глазами». Есенин жаловался Чернавскому, что Клюев ревновал его к женщине, с которой у него был его первый городской роман: «Как только я за шапку, он — на пол, посреди номера сидит и воет во весь голос по-бабьи: не ходи, не смей к ней ходить!» Есенин этих чувств Клюева, видимо, не разделял.
Новая свобода изображения гомосексуальных отношений в прозе и поэзии не осталась без критики. Ряд писателей и консервативных критиков были возмущены ею. Реакция консерваторов изложена в негодующей книге Г.П.Новополина "Порнографический элемент в русской культуре" (1909). Проповедуя откровенно расистский подход, Новополин писал, что насколько ему известно, ранее гомосексуализм существовал только у "малоцивилизованных" народов - в горных племенах Кавказа или в арабских странах.Ввод таких тем в русскую литературу Зиновьевой-Аннибал и Кузминым рассматривался Новополиным как попытка развращения русской молодежи. В его книге произведения этих двух писателей осуждались как источник мерзости, грязи, разврата.
На противоположном от Новополина краю политического спектра находился Максим Горький, член партии большевиков с 1905 года и близкий личный друг Ленина. Летом 1907 г. он писал драматургу Леониду Андрееву о благосклонном изображении гомосексуализма в творчестве Кузмина и Иванова: "Это старомодные рабы, люди, которые не могут удержаться и не спутать свободу с гомосексуализмом. Освобождение личности они каким-то особенным способом путают с переползанием из одной клоаки в другую, а иногда оно сводится до освобождения пениса и ничего более".
Но символисты и акмеисты заявляли, что затрагивающие темы гомосексуальности и лесбиянства литераторы - это новые большие таланты, которым есть что сказать. Среди других литераторов этого периода, писавших на эти темы, были Марина Цветаева (1892-1941), одна из величайших поэтесс нашего века, автор большого числа рассказов Сергей Ауслендер (1886-1943), поэт Рюрик Ивнев (1891-1981), Евдокия Нагродская (1866-1930), автор плохоньких бестселлеров, в одном из которых детективная история завязывается вокруг вопроса о том, кто из трех мужчин - главных героев - мог бы оказаться гомосексуалистом, прекрасная поэтесса-лесбиянка Софья Парнок (1885-1933). Были известны также художники-гомосексуалисты Константин Сомов и выдающийся русскиф жиаописец обнаженной мужской натуры Кузьма Петров-Водкин, уже не говоря о гомосексуалистах среди музыкантов, ученых, актеров и режиссеров. Ошеломляюще гомосексуальная атмосфера вокруг различных акций, предпринимаемых Сергеем Дягилевым начиная с 1898 года - шла ли речь о журналах по искусству, художественных выставках, оперных постановках, организации концертов или о балетной труппе - была лишь самым очевидным примером восхитительной терпимости к гомосексуализму, типичной для того времени. Такие фигуры, как Дягилев, Клюев и Кузьмин были национальными знаменитостями, о которых много писала пресса. Их гомосексуализм был известен всем и не вызывал никаких проблем в их общественной или профессиональной деятельности.
Русский поэт Николай Алексеевич Клюев (1884-1937) родился в семье старообрядцев Олонецкой губернии. После окончания двухклассного училища (1897) начались странствия поэта по старообрядческим скитам и монастырям. Как свидетельствуют современники, он побывал в Иране, Китае и Индии. Клюев приобщается к огромному кладезю знаний, в том числе магических, ему приписывали гипнотическую силу. Поэт был универсальной личностью: умел играть на нескольких музыкальных инструментах, прекрасно пел, обладал недюжинными актерскими способностями.Первые публикации Клюева в петербургской печати относятся к 1900-м годам. В это время Клюев примыкает к рабочему движению, участвует в политических волнениях 1905-1907 годов. Слава поэта приходит к нему в начале 10-х годов, он издает несколько поэтических сборников. В это время близким другом поэта был Александр Блок, но с появлением в Петербурге юного Сергея Есенина внимание олонецкого богатыря полностью переключается на юношу с соломенными волосами. Два года с 1915 по 1917 Есенин и Клюев жили вместе и были практически неразлучны. Любовь двух поэтов была настолько сильна, что вечный странник Клюев, калика перехожий, обзаводится постоянной квартирой в Петербурге, используя свои связи, спасает Есенина от мобилизации в действующую армию.
Последние годы жизни Клюева были связаны с семнадцатилетним художником-графиком А.Н. Яр-Кравченко, которому посвящено множество стихотворений поэта. И хотя собственно гомосексуальная тема была обойдена им стороной, в его стихах Есенину и Кравченко мы находим множество замечательных образов, откровенных признаний в любви и дружбе.
Поэзия Клюева пресыщена сложными метафорическими образами, бытовыми деталями, этнографической лексикой.
В 1934 году Клюев был арестован по доносу, обвинялся, как обычно, в измене родине, фактически - за гомосексуализм ("приставал" к поэту П. Васильеву, что не понравилось одному партийному функционеру, его родственнику). Расстрелян в 1937 году.
Стихи Есенину
Оттого в глазах моих просинь,
Что я сын Великих озер.
Точит сизую киноварь осень
На родной, беломорский простор.
На закате плещут тюлени,
Загляделся в озеро чум...
Златороги мои олени -
Табуны напевов и дум.
Потянуло душу, как гуся,
В голубой, полуденный край;
Тем Микола и Светлый Исусе
Уготовят пшеничный рай!
Прихожу. Вижу избы - горы,
На водах - стальные киты...
Я запел про синие боры,
Про Сосновый Звон и скиты.
Мне ученые люди сказали:
"К. чему святые слова?
Укоротьте поддевку до талии
И обузьте у ней рукава!"
Я заплакал Братскими Песнями,
Порешили: "В рифме не смел!"
Зажурчал я ручьями полосными
И Лесные Были пропел.
В поучение дали мне Игоря
Северянина пудреный том.
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом.
Лихолетья часы железные
Возвестили войны пожар,
И Мирские Думы болезные
Я принес отчизне как дар.
Рассказал, как еловые куколи
Осеняют солдатскую мать,
И бумажные дятлы загукали:
"Не поэт он, а буквенный тать!
Русь Христа променяла на Платовых.
Рай мужицкий - ребяческий бред..."
Но с рязанских полей Коловратовых
Вдруг забрезжил конопляный свет.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,-
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус.
Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп:
Зашипели газеты: "Татария!
И Есенин - поэт-юдофоб!"
О бездушное книжное мелево,
Ворон ты, я же тундровый гусь!
Осеняет Словесное дерево
Избяную, дремучую Русь!
Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древословный навес,
И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес!
Жизнь-праматерь заутрени росные
Служит птицам и правды сынам;
Книги-трупы, сердца папиросные -
Ненавистный Творцу фимиам!
Изба - святилище земли,
С запечной тайною и раем;
По духу росной конопли
Мы сокровенное узнаем.
На грядке веников ряды -
Душа берез зеленоустых...
От звезд до луковой гряды -
Всё в вещем шепоте и хрустах.
Земля, как старище-рыбак,
Сплетает облачные сети,
Чтоб уловить загробный мрак
Глухонемых тысячелетий.
Провижу я: как в верше сом,
Заплещет мгла в мужицкой длани.
Золотобревный Отчий дом
Засолнцевеет на поляне.
Пшеничный колос-исполин
Двор осенит целящей тенью...
Не ты ль, мой брат, жених и сын,
Укажешь путь к преображенью?
В твоих глазах дымок от хат,
Глубинный сон речного ила,
Рязанский, маковый закат -
Твои певучие чернила.
Изба - питательница слов
Тебя взрастила не напрасно:
Для русских сел и городов
Ты станешь Радуницей красной.
Так не забудь запечный рай,
Где хорошо любить и плакать!
Тебе на путь, на вечный май,
Сплетаю стих - матерый лапоть.
1916 или 1917
В степи чумацкая зола -
Твой стих, гордынею остужен.
Из мыловарного котла
Тебе не выловить жемчужин.
И груз "Кобыльих кораблей" -
Обломки рифм, хромые стопы,-
Нс с Коловратовых полей
В твоем венке гелиотропы.
Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином...
От оклеветанных голгоф
Тропа к иудиным осинам.
Скорбит рязанская земля,
Седея просом и гречихой,
Что, соловьиный сад трепля,
Парит есенинское лихо.
Оно как стая воронят,
С нечистым граем, с жадным зобом,
И опадает песни сад
Над материнским строгим гробом.
В гробу пречистые персты,
Лапотцы с посохом железным,
Имажинистские цветы
Претят очам многоболезным.
Словесный брат, внемли, внемли
Стихам - берестяным оленям:
Олонецкие журавли
Христосуются с Голубенем.
Трерядница и Песнослов -
Садко с зеленой водяницей.
Не счесть певучих жемчугов
На нашем детище - странице.
Супруги мы... В живых веках
Заколосится наше семя,
И вспомнит нас младое племя
На песнотворческих пирах.
Непростая, двусмысленная дружба Сергея Есенина и Николая Клюева началась еще на заре творческого пути великого русского поэта. Тогда еще совсем юному Сергею приходилось очень несладко. Его молодая Муза не находила признания в доступной для начинающего стихотворца среде. В Москве его стихи были никому не нужны. Есенин пытался печататься хотя бы в «Рязанском вестнике», но и его редактора совсем не впечатлило это предложение.
Кардинальные перемены в жизни
Постоянные неудачи, непонимание и отсутствие признания, к которому молодой поэт так стремился, ужасно угнетало. Своей первой жене, Анне, он нередко сетовал на горькую судьбу. Да она и сама видела, как гнетет мужа его тяжелое положение. Сергей первый раз женился довольно рано. В 20 лет уже стал отцом. Неспособность найти свое место в жизни толкнула его уехать из Москвы, которая никак не желала принимать молодого поэта.
Есенин решил попытать счастья в Петрограде, где тогда жил и работал сам Александр Блок. Оставив жену Анну и маленького сынишку в Москве, Сергей отправился в северную столицу. Сразу же по приезду он явился к Блоку и прочел ему свои творения. Более зрелый и умудренный опытом поэт с большой приязнью отнесся к своему юному собрату по перу, подписал ему книгу и дал рекомендательное письмо к Сергею Городецкому.
Чтобы пробиться, везде нужны связи
Городецкий тоже был поэтом, восхищался всем исконно русским, так что Есенин был вполне в его формате. Но возвышенный, витавший в облаках Блок не знал о личных пристрастиях Городецкого. Тот был бисексуалом и вращался, главным образом, в кругу людей нетрадиционной ориентации. Очень многие представители богемы в начале XX века предавались всевозможным сексуальным экспериментам.
Сергей Есенин, голубоглазый красавец со светлыми вихрами, произвел на Городецкого неизгладимое впечатление. Вдобавок он принес с собой рукописи стихов собственного сочинения, которые по простоте душевной обернул каким-то старым деревенским платком. Эта деталь сразила Городецкого наповал. Он пригласил Есенина к себе жить и лично помогал ему продвигать стихи в питерские журналы.
Знакомство с Клюевым
Благодаря Городецкому Сергей Есенин стал вхож во многие поэтические салоны Петрограда, в том числе, и в салон Мережковских. Именно в это время и произошло его знакомство с Николаем Клюевым. Последний был ярым последователем хлыстовства, писал велеречивые стихи в деревенском стиле и был бескомпромиссным любителем мужчин.
К Сергею он сразу же воспылал безудержной страстью. Достаточно почитать стихи Клюева того периода, чтобы понять, насколько сильно он был влюблен в Есенина. В своих письмах он постоянно осыпает молодого человека ласкательными именами и пишет ему разные нежности: «голубь мой белый», «светлый братик», «целую тебя… в усики твои милые» и пр.
Он посвящает Сергею несколько стихов, насквозь пропитанных эротизмом и любовным томлением. Обращается к нему «Тебе, мой совенок, птаха моя любимая!» («Плач о Сергее Есенине» Н. Клюев). Чтобы ни на минуту не расставаться с возлюбленным, Клюев селит Есенина у себя дома на Фонтанке и оказывает ему всяческое покровительство.
А была ли любовь?
Благодаря помощи Клюева Сергею Есенину удалось не только избежать военной службы, но и стать широко известным в самых блестящих литературных салонах дореволюционного Петрограда. На одном из благотворительных вечеров молодой поэт был даже представлен императорской особе. Все это время Клюев безудержно ревновал Есенина к любым его увлечениям. Сергей вспоминал, что стоило ему куда-то выйти за порог дома, как Николай садился на пол и выл.
Это ужасно тяготило амбициозного поэта, который не питал к невзрачному мужчине почти на 10 лет его старше никаких чувств. И все же 1,5 года они были вместе. Потом грянул 1917 год, и пути разошлись. Образ крестьянского стихотворца в косоворотке стал неактуален, поэтому Есенин тут же сменил имидж. Он стал имажинистом и бесшабашным хулиганом. Клюев больше был не нужен, и Есенин без малейшего сожаления бросил своего покровителя.
После первого же знакомства в 1915-ом с Есениным Федор Сологуб сказал, что его «крестьянская простота» наигранная, насквозь фальшивая. Федор Кузьмич со свойственной ему проницательностью сумел прочитать в глубине души молодого поэта неистовую жажду признания и славы. Этого не смог разглядеть Николай Клюев. За что и поплатился. Он очень тяжело переживал расставание со своим «ненаглядным Сереженькой». Боль утраты насквозь пронизала лирику Клюева в тот период:
Ёлушка-сестрица,
Верба-голубица,
Я пришел до вас:
Белый цвет Сережа,
С Китоврасом схожий,
Разлюбил мой сказ!
Он пришелец дальний,
Серафим опальный,
Руки - свитки крыл.
Как к причастью звоны,
Мамины иконы,
Я его любил.
И в дали предвечной,
Светлый, трехвенечный,
Мной провиден он.
Пусть я некрасивый,
Хворый и плешивый,
Но душа, как сон.
Сон живой, павлиний,
Где перловый иней
Запушил окно,
Где в углу, за печью,
Чародейной речью
Шепчется Оно.
Дух ли это Славы,
Город златоглавый,
Савана ли плеск?
Только шире, шире
Белизна псалтыри -
Нестерпимый блеск.
Тяжко, светик, тяжко!
Вся в крови рубашка...
Где ты, Углич мой?..
Жертва Годунова,
Я в глуши еловой
Восприму покой.
Но едва ли сам Сергей испытывал хоть каплю тех же чувств. Его цель была достигнута – теперь стихи Есенина издавались. Клюев помог ему преодолеть безвестность и остался в прошлом. Теперь впереди была слава, вино, поэзия и женщины.
«Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в обыкновенной (вариант - простой; вариант - традиционной) крестьянской семье…» Так начинается большинство хрестоматийных биографий «вышедшего из народа поэта» Сергея Есенина. Предполагается, будто читатель знает, что такое обыкновенная (вариант - традиционная; вариант - простая) русская крестьянская семья конца XIX - начала XX века.
И ведь действительно знает... Знание это сакрально и не поддержано (обычно) фактами. Что такое простая русская крестьянская семья, не было известно даже самым образованным современникам Есенина, и именно на этом прочном фундаменте незнания строилась и до сих пор строится его поразительная биография.
Налицо обилие невнятных и невразумительных авторов, неспособных к литературе и изживающих свои комплексы в поэтической форме, собой восхищающихся и себя издающих. От многих из них остаётся ощущение психически нездоровых людей. Впрочем, такое же ощущение оставалось и от многочисленных литературных кружков начала века. Ведь трудно определить поведение литературное и бытовое Маяковского, Мариенгофа, Есенина, Хлебникова и многих других поэтов этого периода как нормальное.
Начнём с того, что отец Есенина, Александр Никитич, был по происхождению действительно крестьянином, но на земле никогда не работал, а работал приказчиком мясной лавки купца Крылова. Он постоянно жил в Москве и дома, в деревне, бывал крайне редко, по большим праздникам. Мать Сергея, Татьяна Фёдоровна (в девичестве Титова), первые три года после рождения первенца жила в деревенском доме мужа. Но потом, не поладив со свекровью, сбежала с сыном к своим родителям. Суровый патриарх семьи Титовых, Фёдор Андреевич Титов, оставил внука у себя, а «беспутную дочь» отправил на заработки в Рязань (почему, кстати, не в Москву, к законному мужу?). Спустя три года она родит в Рязани своего второго, уже внебрачного сына, Александра, и отдаст его на воспитание в крестьянскую семью Разгуляевых. В 1904 году она решает вернуться в семью мужа и забирает Серёжу из дома деда с собой.
В 1920 году Есенин расскажет о своей обиде на мать, которая - на глазах своего тяжело заболевшего сына - шила ему погребальный саван. «Десять лет прошло… кажется, ввек ей этого не забуду! До конца не прощу!»
Мать, шьющая саван на глазах своего больного ребёнка, - это, знаете ли, сильно.
Итак, Сергей растёт, учится, оканчивает начальное училище и, поступив в церковно-приходскую учительскую школу (село Спас-Клепики Рязанского уезда), переезжает из дома в интернат. Здесь он начнёт писать свои первые стихи. Вот образчик его ранней поэзии:
Ты плакала в вечерней тишине,
И слёзы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И всё же мы друг друга не поняли…
9 июля 1912 года он едет с рукописным сборником своих стихов «Больные думы» в Рязань, в редакцию газеты «Рязанский вестник». Но его лирика не находит там понимания. В июле 1912-го, со свидетельством о присвоении ему звания учителя школы грамоты, он уезжает в Москву. Отец устраивает его к себе, в мясную лавку Крылова. Но у Сергея уже другие планы: «Благослови меня, мой друг, на благородный труд. Хочу писать «Пророка», в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу…»* (из письма школьному другу Г. Панфилову). Он ссорится с отцом, уходит из мясной лавки, уезжает домой, в Константиново, через месяц снова возвращается в Москву и поступает на работу в типографию Товарищества И.Д. Сытина.
1913 год, из письма Есенина знакомой барышне М. Бальзамовой: «Жизнь - это глупая шутка. Всё в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной и сгущённый хаос разврата… К чему мне жить среди таких мерзавцев, расточать им священные перлы моей нежной души. Я - один, и никого нет на свете, который бы пошёл мне навстречу такой же тоскующей душой… Я убью себя, брошусь из своего окна и разобьюсь вдребезги об эту мёртвую, пёструю и холодную мостовую». Впрочем, насчёт «я один, и никого нет на свете» Сергей немного кривит душой: в типографии Сытина он уже познакомился с корректоршей Анной Изрядновой, которая вскорости станет его первой женой.
Вот как описывает она своего будущего супруга: «Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нём был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зелёный галстук… Был он очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это. Настроение было у него угнетённое: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать».
Итак, Есенин в Москве. Он работает, занимается самообразованием, пишет стихи и… участвует в революционной борьбе: подписывает коллективное письмо сознательных рабочих в поддержку фракции большевиков в Государственной думе». В Московском охранном отделении молодого поэта берут на карандаш.
Из филёрского донесения (5 ноября 1913 года): «В 9 часов 45 мин. вечера вышел из дому с неизвестной барынькой. Дойдя до Валовой ул., постоял мин. 5, расстались. «Набор» («кличка наблюдения» Есенина) вернулся домой, а неизвестная барынька села в трамвай… кличка будет ей «Доска».
Вполне возможно, что Набор в конце концов забросил бы стихи и стал мирным обывателем или профессиональным революционером, но в январе 1914-го в журнале «Мирок» печатают его стихотворение «Берёза» и в том же январе Сытинскую типографию посещает М. Горький. На Есенина Горький производит неизгладимое впечатление: «Когда в 1914 году… сытинские рабочие отнесли Горького из типографии на руках до его автомобиля, Есенин, обсуждая этот случай, зашёл в своих выводах так далеко, что, по его мнению, писатели и поэты выставлялись как самые известные люди в стране…» (Н. Сардановский).
Есенин уходит с работы, много пишет и всё написанное рассылает по редакциям. «Загадочный русский мужик» в большой моде у образованного общества, и Есенин, как ему кажется, понимает, что им надо. Он пишет о сенокосах, цветистых гулянках, рекрутах с гармошками… Но его практически не печатают. Понятно - везде нужны связи. Есенин молод, талантлив и хорош собой. Он решает рискнуть. «Мы шли из Садовников, где помещалась редакция, по Пятницкой… Говорил один Сергей: «Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймёт» (Н. Ливкин).
8 марта 1915 года, оставив в Москве жену и трёхмесячного сына, Есенин уезжает в Петроград. 9 марта, прямо с вокзала, идёт к А. Блоку и читает ему свои стихи. Блок надписывает ему свою книгу и даёт рекомендательное письмо к поэту С. Городецкому.
«Не помню сейчас, как мы тогда с ним разговор начали… Памятно мне только, что я сижу, а пот с меня прямо градом, а я его платком вытираю. «Что вы? - спрашивает Александр Александрович. - Неужели так жарко?» - «Нет, - отвечаю, - это я так» (записано Вс. Рождественским).
«Ушёл я от Блока ног под собой не чуя. С него да с Сергея Митрофановича Городецкого и началась моя литературная дорога. Так и остался я в Петрограде и не пожалел об этом. И всё с лёгкой блоковской руки!»
Тут, надо сказать, есть один маленький нюанс: поэт Сергей Городецкий не только играл на гуслях и увлекался писанием стихов а-ля рюс, но и являлся активным участником Общества друзей Гафиза, регулярно собиравшегося в «Башне» Вячеслава Иванова. Поэт М. Кузмин так описывает одно из этих собраний: «…Городецкий предложил вина и, притворяясь спящим, заставлял себя будить поцелуями… он встал, я очутился около него, я не помню, отчего он меня обнял, и я его гладил и целовал его пальцы, и он мою руку и в губы, нежно и бегло, как я всего больше люблю…»
Разумеется, Блок не думал ничего такого, посылая 19-летнего амбициозного красавчика Есенина к Городецкому. Блок, по свидетельству многих современников, был человеком исключительной душевной чистоты. Скорее всего, он совсем не интересовался бытовыми привычками и вкусами Городецкого и ничего не знал о них.
Как бы то ни было, Городецкому Есенин пришёлся весьма кстати: «Есенин… пришёл ко мне с запиской от Блока. И я и Блок увлекались тогда деревней. Я, кроме того, и панславизмом… Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда, а вместе с Клюевым и Ширяевым… Есенин дал возможность говорить уже о целой группе крестьянских поэтов.
Стихи он принёс завязанными в деревенский платок (!). Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи… Есенин поселился у меня и прожил некоторое время. Записками во все знакомые журналы я облегчил ему хождение по мытарствам…»
Итак, уже фигурирует некий деревенский платок, в котором «Сергунька» носит свои стихи.
15 марта Есенин дебютирует в салоне Мережковских: «Ему 18 лет… Одет ещё в свой «дорожный» костюм: синяя косоворотка, не пиджак - а «спинжак» (!), высокие сапоги… держал себя со скромностью, стихи читал, когда его просили, - охотно, но не много, не навязчиво… Мы их в меру похвалили. Ему как будто эта мера показалась недостаточной. Затаённая мысль о своей «необыкновенности» уже имелась, вероятно: эти, мол, пока не знают, ну да мы им покажем…
Кончилось тем, что «стихотворство» было забыто и молодой рязанец - уже не в столовой, а в дальней комнате, куда мы всем обществом перекочевали, - во весь голос принялся нам распевать «ихние» деревенские частушки.
И надо сказать - это было хорошо. Удивительно шли и распевность, и подчас нелепые, а то и нелепо охальные слова к этому парню в «спинжаке», что стоял перед нами в углу, под целой стеной книг в тёмных переплётах. Книги-то, положим, оставались ему и частушкам - чужими; но частушки, со своей какой-то и безмерной грубой удалью, и орущий их парень в кубовой рубахе решительно сливались в одно» (З. Гиппиус).
Фёдор Сологуб: «Смазливый такой, голубоглазый, смиренный… Потеет от почтительности, сидит на кончике стула - каждую секунду готов вскочить. Подлизывается напропалую: «Ах, Фёдор Кузьмич! Ох, Фёдор Кузьмич!» - и всё это чистейшей воды притворство! Льстит, а про себя думает: «Ублажу старого хрена - пристроит меня в печать». Ну, меня не проведёшь, - я этого рязанского телёнка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться и что стихов он моих не читал, и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, и насчёт лучины, при которой якобы грамоте обучался, - тоже враньё... Обнаружил под шкуркой настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало».
«В Петербурге он пробыл после этого весь апрель. Его стали звать в богатые буржуазные салоны, сынки и дочки стремились показать его родителям и гостям… За ним ухаживали, его любезно угощали на столиках с бронзой и инкрустацией, торжественно усадив посреди гостиной на золочёный стул.
Стоило ему только произнести с упором на «о» - «корова» или «сенокос», чтобы все пришли в шумный восторг. «Повторите, что вы сказали? Ко-ро-ва? Нет, это замечательно! Что за прелесть!» (В.С. Чернявский).
Но в одиночку ломать такую комедию сложно. Нужны единомышленники и соратники, люди, которым можно доверять и на которых можно положиться. Есенин пишет поэту Н. Клюеву, уже давно играющему роль простого мужика в столичных литературных салонах. Клюев откликается сразу же: «Милый братик, почитаю за любовь узнать тебя и говорить с тобой… Мне многое почувствовалось в твоих словах - продолжай их, милый, и прими меня в сердце своё». По поводу «многое почувствовалось» стоит заметить, что и сладчайший Клюев тоже отличался нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Между «пейзанами» завязывается переписка. Старший (разница в возрасте - 11 лет) делиться опытом с младшим: «Голубь мой белый… ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде, и только по милости нас терпят в нём… Видишь ли - им не важен дух твой, бессмертный в тебе, а интересно лишь то, что ты, холуй и хам - смердяков, заговорил членораздельно… Целую тебя, кормилец, прямо в усики твои милые».
Книжник и хорошо образованный человек, знавший несколько европейских языков, Н. Клюев работал «поэтом от сохи» где-то примерно с 1904 года. Александр Блок считал его «провозвестником народной культуры» и состоял с ним в личной переписке. Ему, как мужицкому поэту, покровительствовали В. Брюсов и Н. Гумилёв.
В октябре 1915-го Клюев и Есенин встречаются в Петрограде и полтора года практически не расстаются. Клюев селит у себя Серёженьку (набережная Фонтанки, дом 149), и они, в бархатных шароварах и шёлковых косоворотках, начинают вместе гастролировать по салонам.
Именно Клюев, задействовав свои связи, отмазывает Есенина от действующей армии и устраивает «светлого своего братика» медбратом в лазарет, в Царское Село. Здесь на благотворительном концерте в пользу раненых Есенина представляют императрице и великим княжнам. Царствующая особа благосклонно принимает сборник стихов «Радуницы» и даже говорит несколько одобрительных слов…
Карьера Есенина в зените.
Образ сложился, характерность продумана, маска найдена. Кажется, что можно всю оставшуюся жизнь стричь купоны и играть роль…
«В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками… Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет своё одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.
Как человек, уже в своё время относивший и отставивший жёлтую кофту, я деловито осведомился относительно одёжи: «Это что же, для рекламы?»
И тут происходит Великая Октябрьская социалистическая революция.
Образ «опереточного мужика, златокудрого Леля» практически сразу же становится крайне неактуален. «Пролетариат - вот единственный до конца революционный класс», - объявляет с трибуны Ленин. В революционных салонах «тёмных и отсталых» мужичков явно недолюбливают. То ли дело сознательные рабочие, революционные матросы и героические сотрудники ЧК!
«В первый раз я встретил Есенина в 1918 году в Пролеткульте… Он был одет в шёлковую белую вышитую русскую рубаху и широкие штаны. Костюм сельского пастушка с картины 18-го века… Я узнал, что он живёт тут же, в Пролеткульте, с поэтом Клычковым, в ванной комнате купцов Морозовых, причём один из них спит на кровати, а другой в каком-то шкафу» (Н. Полежаев).
«Есенин несколько раз говорил мне о том, что он хочет пойти в коммунистическую партию и даже написал заявление, которое лежало у меня на столе несколько недель» (Г. Устинов, зав. ред. «Правды»).
«Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира… Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали…» (В. Ходасевич).
Есенин пытается сменить маску, нащупать новый образ. Стать пролетарским поэтом для знаменитого крестьянского самородка уже нереально, да и не хочется, честно говоря. Возникает «имажинизм».
В ночь с 27 на 28 января 1919 года группа имажинистов (Есенин, Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков) расписали стены Страстного монастыря своими стихами.
«На тёмно-розовой стене монастыря ярко горели белые крупные буквы:
Вот они толстые ляжки
Этой похабной стены.
Здесь по ночам монашки
Снимают с Христа штаны.
И подпись - Сергей Есенин. Милиционеры уговаривали горожан разойтись и оттесняли их от монашек, которые, намылив мочалки, пытались смыть строки» (М. Ройзман).
19 апреля 1920 года, Харьков. «Толпа гуляющих плотным кольцом окружила нас и стала сначала с удивлением, а потом с интересом, слушать чтеца. Однако когда стихи приняли явно кощунственный характер, в толпе заволновались. Послышались враждебнее выкрики. Когда он (Есенин) резко, подчёркнуто бросил в толпу: «Тело, Христово тело, выплёвываю изо рта!» - раздались негодующие крики. Кто-то завопил: «Бей его, богохульника!» (Л. Повицкий).
«Я позволил себе всё», - говорил он влюблённой в него Г. Бениславской.
Жизнь её была прекрасной и трагической. Мифология о ней - красочна и парадоксальна. В печально знаменитом докладе 16 августа 1946 года Жданов сказал об Ахматовой: «Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой». Слова эти до сих пор воспринимаются как хамский выпад безграмотного партийного идеолога.
1921 год. «Одет он был с тем щегольством, какое было присуще ему в имажинистский период. Широкая, свободно сшитая тёмная блуза, что-то среднее между пиджаком и смокингом. Белая рубашка с галстуком-бабочкой, лакированные туфли» (С. Спасский).
«Он терпеть не мог, когда его называли пастушком Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта. Отлично помню его бешенство, с которым он говорил мне в 1921 году о подобной трактовке его. Он хотел быть европейцем… Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем жёлтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддёвки с гармошкой… Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни. Когда я, не понимая его дружбы с Мариенгофом, спросил его о причине её, он ответил: «Как ты не понимаешь, что мне нужна тень». Но на самом деле в быту он был только тенью денди Мариенгофа, он копировал его и очень легко усвоил… всю несложную премудрость внешнего дендизма» (С. Городецкий).
Но ведь европеец и денди ещё более чужды советской власти, чем крестьянин? Есенин выбрал для себя более близкий и понятный народу образ - хулигана, социально близкого фартового уголовника. Это был не дендизм, а бандитский шик.
Но «всё чаще и чаще, возвращаясь домой из «Стойла», ссылаясь на скуку и усталость, предлагал он завернуть в тот или иной кабачок - выпить и освежиться» (И. Старцев).
Персонаж «Москвы кабацкой» со всем своим хулиганством медленно, но неуклонно начинает превращаться в Шарикова с гармошкой.
Будет, конечно, попытка вырваться, уехать в Европу. Он женится на всемирно известной американской танцовщице Айседоре Дункан. Но она на 18 лет его старше и «Есенин был влюблён столько же в Дункан, сколько в её славу… Женщины не играли в его жизни большой роли» (С. Городецкий).
«С Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем и Кусиковым я часто проводил оргийные ночи в особняке Дункан, ставшем штаб-квартирой имажинизма. Снабжение продовольствием и вином шло непосредственно из Кремля…
Помню, как однажды, лёжа на диване рядом с Дункан, Есенин, оторвавшись от её губ, обернулся ко мне и крикнул:
Осточертела мне эта московская Америка! Смыться бы куда!
Замени ты меня, Толька, Христа ради!
Ни заменить, ни смыться не удалось. Через несколько дней Есенин улетел с Дункан за границу» (Ю. Анненков).
С собой он берёт Кусикова. Айседора оплачивает их счета. Но популярность её уже сходит на нет, она постарела и практически вышла в тираж - гонорары её падают.
«…Я увидел Есенина в Берлине, в квартире А.Н. Толстого… Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее - серая, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика… около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружён гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней… Айседора плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием её тела, избалованного славой и любовью… Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, он кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице её застыла ничего не говорящая улыбка…
Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на неё, морщился…» (М. Горький).
27 января 1923 года, Нью-Йорк. «Русский поэт-большевик избивает свою жену-американку, знаменитую танцовщицу Дункан».
17 февраля, Париж. «Дебош в отеле «Крийон». Есенину предложено немедленно оставить пределы Франции».
После ряда скандалов Есенин расстаётся с Дункан и возвращается домой, в Россию.
«…Берём извозчика, покупаем пару бутылок вина и направляемся к Зоологическому саду, в студию скульптора Коненкова.
Чтобы ошеломить Коненкова буйством и пьяным видом, Есенин, подходя к садику коненковского дома, заломил кепку, растрепал волосы, взял под мышку бутылки с вином. И шатаясь и еле выговаривая приветствия, с шумом ввалился в переднюю» (И. Грузинов).
Есенин всё ещё продолжает оттачивать свой имидж, хотя это, наверное, уже не нужно. У него и так хронический алкоголизм.
«Лето. Пивная близ памятника Гоголя.
Есенин, обращаясь к начинающему поэту, рассказывает, как Александр Блок учил его писать лирические стихи.
Иногда важно, чтобы молодому поэту более опытный поэт показал, как нужно писать стихи. Вот меня, например, учил писать лирические стихи Блок, когда я с ним познакомился в Петербурге…» (И. Грузинов).
1925 год, июнь. «…Он стал разговаривать с призраками, бросался на воображаемых врагов, сжимая кулаки и скрежеща зубами… Припадок продолжался около получаса.
Затем, немного успокоившись, стал собирать свои вещи: рыскал по комнатам в поисках чемоданов, подушек и одеял. Откуда-то притащил огромное одеяло, завернулся в него и, волоча одеяло по полу, собирался немедленно покинуть квартиру…» (И. Грузинов).
«Возвращаясь из последней поездки на Кавказ, Есенин в пьяном состоянии оскорбил одно должностное лицо. Оскорблённый подал в суд. Есенин волновался и искал выхода…
Тебе скоро суд, Сергей, - сказала Екатерина утром протрезвевшему брату.
Есенин заметался как в агонии.
Выход есть, - продолжала сестра, - ложись в больницу. Больных не судят. А ты, кстати, поправишься» (В. Наседкин).
Есенин ложится в психиатрическую лечебницу, но через 25 дней сбегает оттуда, снова начинает пить, едет в Петербург, останавливается в «Англетере», пишет кровью и дарит своему молодому другу, поэту и сотруднику НКВД В. Эрлиху, стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди…» и…
Впрочем, дальнейшее хоть и вызывает множество споров, но общеизвестно.
Самая большая загадка в этом деле, по-моему, не кто убил Сергея Есенина и убивали ли его вообще, а почему один из лучших русских национальных поэтов, безумно одарённый человек, сначала сам напяливает на себя маску опереточного русского мужика, а потом, под одобрительный смех современников, влезает в образ богемного гения - пьяницы и мелкого скандалиста.
Есенин всю свою жизнь уважал и ценил Александра Блока.
22 апреля 1915 года Блок, уклоняясь от новой встречи, писал ему: «Дорогой Сергей Александрович. Сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Поэтому думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем. Вам желаю от всей души остаться живым и здоровым. Трудно догадывать вперёд, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только всё-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придётся дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее.
Я всё это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унёс и чтобы болото не затянуло.
Будьте здоровы, жму руку. Александр Блок».
* Письма С.А. Есенина и филёрское донесение цитируются по «Хронике» В. Баранова.
Кардинальные перемены в жизни
Постоянные неудачи, непонимание и отсутствие признания, к которому молодой поэт так стремился, ужасно угнетало. Своей первой жене, Анне, он нередко сетовал на горькую судьбу. Да она и сама видела, как гнетет мужа его тяжелое положение. Сергей первый раз женился довольно рано. В 20 лет уже стал отцом. Неспособность найти свое место в жизни толкнула его уехать из Москвы, которая никак не желала принимать молодого поэта.
Есенин решил попытать счастья в Петрограде, где тогда жил и работал сам Александр Блок. Оставив жену Анну и маленького сынишку в Москве, Сергей отправился в северную столицу. Сразу же по приезду он явился к Блоку и прочел ему свои творения. Более зрелый и умудренный опытом поэт с большой приязнью отнесся к своему юному собрату по перу, подписал ему книгу и дал рекомендательное письмо к Сергею Городецкому.
Чтобы пробиться, везде нужны связи
Городецкий тоже был поэтом, восхищался всем исконно русским, так что Есенин был вполне в его формате. Но возвышенный, витавший в облаках Блок не знал о личных пристрастиях Городецкого. Тот был бисексуалом и вращался, главным образом, в кругу людей нетрадиционной ориентации. Очень многие представители богемы в начале XX века предавались всевозможным сексуальным экспериментам. Сергей Есенин, голубоглазый красавец со светлыми вихрами, произвел на Городецкого неизгладимое впечатление. Вдобавок он принес с собой рукописи стихов собственного сочинения, которые по простоте душевной обернул каким-то старым деревенским платком. Эта деталь сразила Городецкого наповал. Он пригласил Есенина к себе жить и лично помогал ему продвигать стихи в питерские журналы.
Знакомство с Клюевым
Благодаря Городецкому Сергей Есенин стал вхож во многие поэтические салоны Петрограда, в том числе, и в салон Мережковских. Именно в это время и произошло его знакомство с Николаем Клюевым. Последний был ярым последователем хлыстовства, писал велеречивые стихи в деревенском стиле и был бескомпромиссным любителем мужчин.
К Сергею он сразу же воспылал безудержной страстью. Достаточно почитать стихи Клюева того периода, чтобы понять, насколько сильно он был влюблен в Есенина. В своих письмах он постоянно осыпает молодого человека ласкательными именами и пишет ему разные нежности: «голубь мой белый», «светлый братик», «целую тебя… в усики твои милые» и пр.
Он посвящает Сергею несколько стихов, насквозь пропитанных эротизмом и любовным томлением. Обращается к нему «Тебе, мой совенок, птаха моя любимая!» («Плач о Сергее Есенине» Н. Клюев). Чтобы ни на минуту не расставаться с возлюбленным, Клюев селит Есенина у себя дома на Фонтанке и оказывает ему всяческое покровительство.
А была ли любовь?
Благодаря помощи Клюева Сергею Есенину удалось не только избежать военной службы, но и стать широко известным в самых блестящих литературных салонах дореволюционного Петрограда. На одном из благотворительных вечеров молодой поэт был даже представлен императорской особе. Все это время Клюев безудержно ревновал Есенина к любым его увлечениям. Сергей вспоминал, что стоило ему куда-то выйти за порог дома, как Николай садился на пол и выл.
Это ужасно тяготило амбициозного поэта, который не питал к невзрачному мужчине почти на 10 лет его старше никаких чувств. И все же 1,5 года они были вместе. Потом грянул 1917 год, и пути разошлись. Образ крестьянского стихотворца в косоворотке стал неактуален, поэтому Есенин тут же сменил имидж. Он стал имажинистом и бесшабашным хулиганом. Клюев больше был не нужен, и Есенин без малейшего сожаления бросил своего покровителя.
После первого же знакомства в 1915-ом с Есениным Федор Сологуб сказал, что его «крестьянская простота» наигранная, насквозь фальшивая. Федор Кузьмич со свойственной ему проницательностью сумел прочитать в глубине души молодого поэта неистовую жажду признания и славы. Этого не смог разглядеть Николай Клюев. За что и поплатился. Он очень тяжело переживал расставание со своим «ненаглядным Сереженькой». Боль утраты насквозь пронизала лирику Клюева в тот период:
Ёлушка-сестрица,
Верба-голубица,
Я пришел до вас:
Белый цвет Сережа,
С Китоврасом схожий,
Разлюбил мой сказ!
Он пришелец дальний,
Серафим опальный,
Руки - свитки крыл.
Как к причастью звоны,
Мамины иконы,
Я его любил.
И в дали предвечной,
Светлый, трехвенечный,
Мной провиден он.
Пусть я некрасивый,
Хворый и плешивый,
Но душа, как сон.
Сон живой, павлиний,
Где перловый иней
Запушил окно,
Где в углу, за печью,
Чародейной речью
Шепчется Оно.
Дух ли это Славы,
Город златоглавый,
Савана ли плеск?
Только шире, шире
Белизна псалтыри -
Нестерпимый блеск.
Тяжко, светик, тяжко!
Вся в крови рубашка...
Где ты, Углич мой?..
Жертва Годунова,
Я в глуши еловой
Восприму покой.
Но едва ли сам Сергей испытывал хоть каплю тех же чувств. Его цель была достигнута – теперь стихи Есенина издавались. Клюев помог ему преодолеть безвестность и остался в прошлом. Теперь впереди была слава, вино, поэзия и женщины.